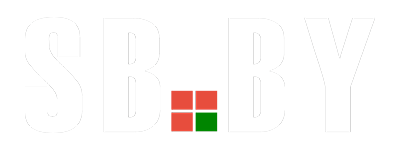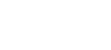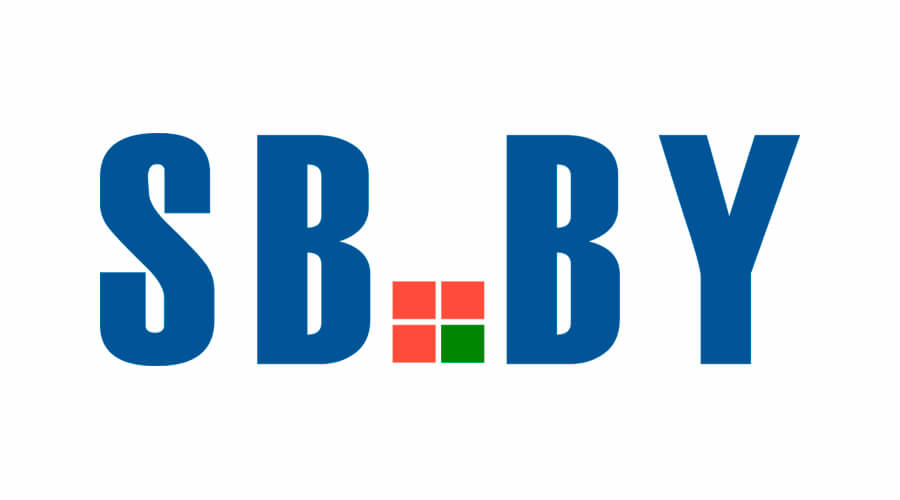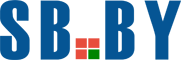Если бы кто-нибудь задался целью сплюсовать все годы, которые Марина Станишевская, ее родители, деды, многочисленные кузины и двоюродные бабушки отдали белорусским школам, вузам и колледжам, то получилось бы ни много ни мало – 360 лет.
Целых три с половиной столетия, во время которых эта дружная и изрядно разросшаяся семья учила первоклассников выводить непослушной и дрожащей от усердия рукой первые кособокие буквы, проверяла вечные как мир сочинения о том, что Базаров – лицо трагическое, а Катерина из «Грозы» – лучик света в темном царстве, и учила видеть за хитроумными, напоминающими шпионскую шифровку химическими формулами конкретные реакции. Два года назад столичный преподаватель Марина Вячеславовна решила восстановить свой педагогический родовод, и сегодня она охотно делится своими историческими находками с читателями «Знаменки».
«В начале века в учителя шли из-за казенной квартиры»
 Для моей собеседницы таинственные рассказы о средневековье с его родовыми замками, соколиными охотами и дуэлями за право забрать с собой надушенную перчатку какой-нибудь юной прелестницы отнюдь не кажутся сказками: за ее спиной – известный дворянский род Ванькевичей, у которого были и земли, и холопы со смердами, и даже собственный герб с замершим в прыжке ярко-алым лисом. Поговаривают, что к их роду имел отношение даже известный художник Валентий Ванькович, который ходил в друзьях у Пушкина и написал самый известный портрет Адама Мицкевича, где тот задумчиво взирает на морскую гладь с высоты Аю-Дага.
Для моей собеседницы таинственные рассказы о средневековье с его родовыми замками, соколиными охотами и дуэлями за право забрать с собой надушенную перчатку какой-нибудь юной прелестницы отнюдь не кажутся сказками: за ее спиной – известный дворянский род Ванькевичей, у которого были и земли, и холопы со смердами, и даже собственный герб с замершим в прыжке ярко-алым лисом. Поговаривают, что к их роду имел отношение даже известный художник Валентий Ванькович, который ходил в друзьях у Пушкина и написал самый известный портрет Адама Мицкевича, где тот задумчиво взирает на морскую гладь с высоты Аю-Дага.
Возможно, не будь у нас революций, это многочисленное дворянское семейство еще долго бы обитало в родовой усадьбе, коротая дни за приятным чтением и неспешными беседами о нравах и модах. «Когда у вчерашних шляхтичей начали массово забирать земли, многие старались определить детей в университеты, чтобы те могли хоть как-то прокормиться, – проводит экскурс в историю Марина Вячеславовна. – Самыми модными считались железнодорожные специальности, но было много и тех, кто шел в преподаватели, причем нередко из меркантильных соображений – из-за казенной квартиры».
«В деревне учителю приходилось быть еще и народным судьей – разрешать споры, разнимать драки»
 Сегодня уже сложно сказать, руководствовался ли ее дед Михаил Иванович высокими
Сегодня уже сложно сказать, руководствовался ли ее дед Михаил Иванович высокими
стремлениями или, может быть, практическим интересом, но так или иначе, окончив в конце 1920-х педагогический факультет только-только появившегося Белгосуниверситета, он отправился работать в сельскую школу в деревню Холопеничи – причем сразу директором, несмотря на свои зеленые 28. «В ту пору учитель считался одним из самых авторитетных людей во всей деревне, – рассказывает Марина Вячеславовна, – поэтому ему волей-неволей приходилось быть еще и этаким народным судьей, который разрешал споры, разнимал драки».
Впрочем, несмотря на такой почет, жизнь учителя вели отнюдь не богемную: Михаил Иванович вместе со своей молодой женой, которая приехала работать в эту же школу учительницей начальных классов, топили печь, держали коров и думали, как бы половчее перешить протертые до дыр костюмы, чтобы выглядеть более-менее прилично.
«К сожалению, деда я уже не застала, – огорчается моя собеседница, – сразу после войны он был репрессирован и через год умер в лагере от истощения. А вот бабушку я помню хорошо: мне было девять лет, когда ее не стало. Она еще успела надиктовать нам с братом не один десяток словарных слов, причем писать заставляла пером – чтобы буквы выходили ровные, округлые. Это было настолько утомительно, что как только бабушка теряла бдительность, мы немедленно от нее сбегали».
«Мама запрещала нам не то что приходить – даже звонить ей на работу»
 Из трех дочерей, выросших у педагогической четы, две пошли по родительским стопам, в том числе и мама моей героини Елена Михайловна. Впрочем, ни она, ни ее муж, ни даже дочка учительствовать не собирались, но то ли случайность, то ли внутреннее ощущение принадлежности к одному большому общему делу вывели каждого из них на эту же стезю, поставив одних к школьной доске, других – за университетскую кафедру. «Мама, как и дед, окончила БГУ и без малого три десятка лет преподавала химию студентам пединститута, – рассказывает Марина Вячеславовна. – В отличие от многих женщин-лекторов, которые могли запросто привести ребенка к себе на пару и даже посадить кого-нибудь из студентов его развлекать, она никогда не брала нас на работу – за все эти годы я была у нее на кафедре один-единственный раз. Даже звонить ей строго-настрого запрещалось. Кстати, несмотря на солидный возраст, мама до сих пор сохранила хорошо поставленный лекторский голос, так что и теперь, разговаривая с ней по телефону, я стараюсь держать трубку в полуметре от уха».
Из трех дочерей, выросших у педагогической четы, две пошли по родительским стопам, в том числе и мама моей героини Елена Михайловна. Впрочем, ни она, ни ее муж, ни даже дочка учительствовать не собирались, но то ли случайность, то ли внутреннее ощущение принадлежности к одному большому общему делу вывели каждого из них на эту же стезю, поставив одних к школьной доске, других – за университетскую кафедру. «Мама, как и дед, окончила БГУ и без малого три десятка лет преподавала химию студентам пединститута, – рассказывает Марина Вячеславовна. – В отличие от многих женщин-лекторов, которые могли запросто привести ребенка к себе на пару и даже посадить кого-нибудь из студентов его развлекать, она никогда не брала нас на работу – за все эти годы я была у нее на кафедре один-единственный раз. Даже звонить ей строго-настрого запрещалось. Кстати, несмотря на солидный возраст, мама до сих пор сохранила хорошо поставленный лекторский голос, так что и теперь, разговаривая с ней по телефону, я стараюсь держать трубку в полуметре от уха».
Свои студенты были и у папы – Вячеслава Николаевича Станишевского, который вел спецдисциплины в Белорусском технологическом институте им. С. М. Кирова. «Честно говоря, именно ради него я и затеяла всю эту работу по составлению родовода, – признается моя собеседница. – Когда два года назад мне предложили принять участие в отборочном этапе Республиканского слета педагогических династий, отец уже перенес два инсульта и был очень слаб. И я поняла, что мне выпадает уникальный шанс подвести суммирующую черту под всем, что он сделал, напомнить, что он прошел этот путь не зря. И когда, уже на республиканском этапе, я показывала свою презентацию, а отец, сидя в первом ряду, украдкой вытирал слезы, то поняла, что взялась за эту работу не зря. А через три месяца его с нами не стало…»
«Одна студенческая записка заставила меня перекроить все свои лекции»
 Сегодня Марина Станишевская, окончив бывший театрально-художественный институт – нынешнюю академию искусств, вот уже 16 лет преподает цветоведение, композицию и еще с десяток спецдисциплин в Минском государственном профессионально-техническом колледже декора-тивно-прикладного искусства им. Н. А. Кедышко. «Прошло добрых десять лет, прежде чем я привыкла к своей учительской ипостаси, научилась держать внимание аудитории и не волноваться, когда приходится излагать материал сразу целому потоку, – признается Марина Вячеславовна. – На первых порах случалось всякое. Помню, однажды я читала, как мне казалось, весьма неплохую лекцию об истории костюма, а потом, убирая класс, случайно обнаружила переписку двух студенток. «Маша, представляешь, я уснула и 15 минут проспала», – писала одна. «Не переживай, ты ничего не потеряла», – отвечала другая. После этого я перекроила все свои лекции, научилась перебивать их историями из жизни, отрывками из прочитанных книг и цитатами из кинофильмов, чтобы ненадолго переключить внимание студентов и дать им отдохнуть от потока информации».
Сегодня Марина Станишевская, окончив бывший театрально-художественный институт – нынешнюю академию искусств, вот уже 16 лет преподает цветоведение, композицию и еще с десяток спецдисциплин в Минском государственном профессионально-техническом колледже декора-тивно-прикладного искусства им. Н. А. Кедышко. «Прошло добрых десять лет, прежде чем я привыкла к своей учительской ипостаси, научилась держать внимание аудитории и не волноваться, когда приходится излагать материал сразу целому потоку, – признается Марина Вячеславовна. – На первых порах случалось всякое. Помню, однажды я читала, как мне казалось, весьма неплохую лекцию об истории костюма, а потом, убирая класс, случайно обнаружила переписку двух студенток. «Маша, представляешь, я уснула и 15 минут проспала», – писала одна. «Не переживай, ты ничего не потеряла», – отвечала другая. После этого я перекроила все свои лекции, научилась перебивать их историями из жизни, отрывками из прочитанных книг и цитатами из кинофильмов, чтобы ненадолго переключить внимание студентов и дать им отдохнуть от потока информации».
Редкую минуту Марина Вячеславовна не думает о предстоящих занятиях: она может даже проснуться среди ночи, чтобы отщипнуть кусочек от валяющегося дома комка природного воска, чтобы показать его ребятам на лекции. «К сожалению, мой сын Илья не проявляет интереса к преподаванию: его как настоящего студента-программиста куда больше интересуют компьютеры. Хотя я не исключаю возможности, что однажды наши гены все-таки возьмут свое…»
Виктория КРУПЕНЬКОВА, «ЗН», фото из личного архива Марины Станишевской