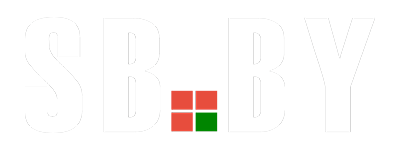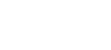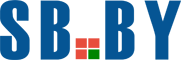Несколько лет назад кто–то из арт–критиков назвал Сергея Кирющенко «певцом решеток». Решетки сделали его стиль таким узнаваемым, стали наглядным символом времени и заставили публику вспомнить о тех временах, когда произведение искусства еще не рассматривали мимоходом. Эти решетки оказались точнее и убедительнее всех слов, посредством которых блогеры и философы пытаются осмыслить мир, меняющийся так стремительно и очевидно. У Кирющенко они универсальны — отражают современный городской пейзаж с его плиточными тротуарами и строгой геометрией многоэтажек, упорядочивают наши социальные связи, которые все больше не связи, а сети, и оказываются пригодными для построения любых каркасов как внутри, так и вовне. В персональном каталоге, демонстрирующем эволюцию творчества Сергея Кирющенко за 40 лет, решетки не менее динамичны, чем на выставках, хотя в десятки раз проигрывают реальному масштабу его работ. Но именно это 13–е издание альбомной серии новейшего белорусского искусства «Калекцыя пАРТызана» стало тем самым документом, который дает понять без лишних слов: определение классика белорусского абстракционизма, впервые прозвучавшее в адрес Кирющенко на презентации его каталога, теперь и впредь будут связывать с его именем.
Несколько лет назад кто–то из арт–критиков назвал Сергея Кирющенко «певцом решеток». Решетки сделали его стиль таким узнаваемым, стали наглядным символом времени и заставили публику вспомнить о тех временах, когда произведение искусства еще не рассматривали мимоходом. Эти решетки оказались точнее и убедительнее всех слов, посредством которых блогеры и философы пытаются осмыслить мир, меняющийся так стремительно и очевидно. У Кирющенко они универсальны — отражают современный городской пейзаж с его плиточными тротуарами и строгой геометрией многоэтажек, упорядочивают наши социальные связи, которые все больше не связи, а сети, и оказываются пригодными для построения любых каркасов как внутри, так и вовне. В персональном каталоге, демонстрирующем эволюцию творчества Сергея Кирющенко за 40 лет, решетки не менее динамичны, чем на выставках, хотя в десятки раз проигрывают реальному масштабу его работ. Но именно это 13–е издание альбомной серии новейшего белорусского искусства «Калекцыя пАРТызана» стало тем самым документом, который дает понять без лишних слов: определение классика белорусского абстракционизма, впервые прозвучавшее в адрес Кирющенко на презентации его каталога, теперь и впредь будут связывать с его именем.— Только время может сказать, кто матери–истории более ценен, — не без иронии комментирует Сергей Иванович факт признания его классиком. — Главное — не стоять на месте и постоянно искать новые возможности для отражения собственного видения мира.
Действительно, историю белорусского современного искусства можно изучать на нем одном. Начиная с Израиля Басова (влияние картин–знаков Басова на ранние работы Кирющенко очевидно), нашумевшего творческого объединения «Немига–17», возникшего в мастерской Сергея Ивановича на 17–м этаже жилого дома на Немиге, и освоения новых технологий, которые наши абстракционисты так изобретательно применяли к артефактам белорусской деревни.
Его жизнь и сейчас проходит между деревней и европейскими центрами искусства, где он занимается, по сути, все тем же: пытается собирать и сохранять артефакты времени, создает свой музей современного искусства, который мог бы непредвзято рассказать о белорусском contemporary art, собирает художников... В 1990–е, утверждает Кирющенко, целое поколение наших художников покинуло страну, несколько лет назад он издал книгу, пытаясь вернуть их в контекст белорусского искусства. Теперь уже в качестве признанных мэтров многие сами возвращаются в Беларусь, правда, пока только с выставками. И хотя Игорь Тишин с Натальей Залозной уже обзавелись мастерскими не только в Брюсселе, но и в Минске, их юные коллеги продолжают уезжать насовсем, как и раньше, надеясь создать что–то новое и революционное и, конечно же, получить признание. Увы, у других берегов.
— Если нормальный человек уехал, работает, все у него будет хорошо, — убежден Кирющенко. — Когда весь контекст подталкивает к серьезному отношению к искусству, результат будет.
В отличие от Бельгии, Польши, Германии или Голландии, в современное искусство которых наши художники внесли заметный вклад, этот самый «контекст» даже в Минске все еще нужно хорошо поискать, несмотря на растущее число альтернативных выставочных площадок. Здесь громко заявленная выставка современного искусства по–прежнему может оказаться скорее презентацией добротной салонной живописи, нежели исследованием сегодняшнего мира и человека в нем, чего, в принципе, справедливо ожидать от такой выставки. Так или иначе, искусство всегда отражало время. Порой опережало. Нравится это кому–то или нет, но в современной реальности, нестабильной, информационно насыщенной, классических живописных приемов мало. «Организация» полноценного эмоционального потрясения для нынешней публики — интеллектуальной, критичной, технически продвинутой — дело весьма затратное. Прежде всего интеллектуально. Причем не только со стороны художников, но и потенциальных меценатов. А таких мало.
Недостающие деньги для участия в последнем, 56–м, Венецианском бьеннале современного искусства команда белорусского проекта «Архив свидетеля войны» искала в интернете еще за неделю до этой главной художественной олимпиады. Белорусский павильон в Венеции таки открылся, но «Архив» Алексея Шинкаренко и Ольги Рыбчинской, действительно свежий и необычный по замыслу, не удалось реализовать даже наполовину от задуманного. До открытия следующего форума в Венеции — ровно год, самое время начинать готовиться, чтобы снова не оказаться застигнутыми врасплох. Пока еще есть время для маневров...

Конечно, опыт Сергея Кирющенко, продавшего квартиру, чтобы реализовать свой масштабный проект «Метаболизм живописного пространства», вариант крайний. Но такой жест достоин истинного классика. Разглядывать его флуоресцентные решетки и в каталоге можно долго, иллюзия движения возникает даже там. А какой был эффект во Дворце искусства, где его полотна от пола до потолка буквально перекроили стены... Кстати, возможность увидеть эти работы в полноценном размере еще появится — через год Сергей Кирющенко планирует новую выставку, фрагмент которой представил по случаю презентации своего каталога. Теперь, когда его решетки обрели звук и уже отнюдь не иллюзорное движение (благодаря дизайнеру Андрею Савицкому), остановить зрителя они могут еще вернее. Там есть нерв времени. И есть искусство, которое больше слов.
cultura@sb.by
Советская Белоруссия № 99 (24981). Пятница, 27 мая 2016