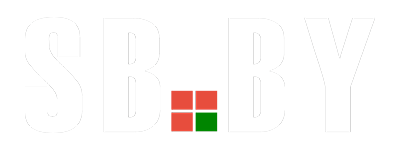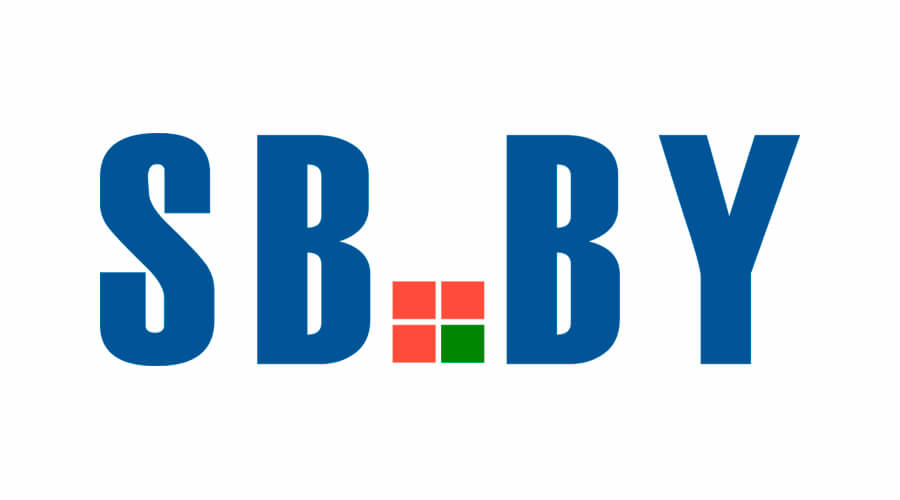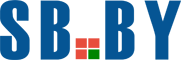Попытка суммировать сведения, полученные за время четырех путешествий
Попытка суммировать сведения, полученные за время четырех путешествий
Помнится, во время учебы на факультете журналистики (тогда — отделении) Белгосуниверситета на занятиях по стилистике самым популярным примером иносказательности было выражение «туманный Альбион» (вместо Великобритании, Англии), безусловно, почерпнутое из печати того времени.
Поэтому, когда я впервые в 1982 году попал (на стипендию ЮНЕСКО для поисков в библиотеках и музеях белорусских рукописей, книг и экспонатов) в Лондон и увидел над аэропортом «Хитроу» чистое небо, с некоторым разочарованием спросил у встречающих:
— А где же ваш пресловутый туман?
— Нет тумана! — услышал ответ. — Перестали топить печки и камины углем — исчез смог, претворившись в туманное воспоминание стихоплетов.
Еще одно доказательство бренности всего сущего...
 Тумана я так и не увидел ни в одно из четырех своих посещений Великобритании. Второй раз прилетал по приглашению мецената и историка, наследника князей мстиславских и заславских Анджея Цехановецкого, чтобы взять у него для музея древнебелорусской культуры Академии наук БССР четырехсторонний слуцкий пояс, а также редчайшее гродненское издание XVIII века для музея белорусского книгопечатания в Полоцке (позже к ним прибавилась картина австрийца А. фон Вайдартена «Вид замка князя Радзивилла», датированная началом XIX века). Третий и четвертый разы — на научные конференции. И всегда старался выкроить хотя бы несколько дней для поисков белорусских реликвий.
Тумана я так и не увидел ни в одно из четырех своих посещений Великобритании. Второй раз прилетал по приглашению мецената и историка, наследника князей мстиславских и заславских Анджея Цехановецкого, чтобы взять у него для музея древнебелорусской культуры Академии наук БССР четырехсторонний слуцкий пояс, а также редчайшее гродненское издание XVIII века для музея белорусского книгопечатания в Полоцке (позже к ним прибавилась картина австрийца А. фон Вайдартена «Вид замка князя Радзивилла», датированная началом XIX века). Третий и четвертый разы — на научные конференции. И всегда старался выкроить хотя бы несколько дней для поисков белорусских реликвий.
Поскольку результаты тех путешествий до сих пор не систематизированы и не суммированы, постараюсь сделать это, придерживаясь хронологического принципа. К своим уже довольно старым записям добавляю сведения из картотеки комиссии «Вяртанне» Белорусского фонда культуры.
Земляк Скорины?
Английский юрист и знаток белорусской церковной музыки Гай Пикардо, уже ушедший в мир иной, спросил меня сразу же после первого знакомства в Белорусской библиотеке имени Франтишка Скорины в Лондоне:
— А спадар Мальдзiс ведае, хто са знакамiтых сыноў крывiцкае зямлi першы засведчыў сваю прысутнасць за Ла–Маншам?!
— Мусiць, Аляксандр Рыпiнскi. Ён заснаваў тут друкарню, выдаў свайго «Нячысцiка».
— Рыпiнскi з’явiўся на некалькi стагоддзяў пазней. Да яго мы яшчэ дойдзем, разам паедзем у Тотнэм, дзе быў яго друкарскi вартштат... А cучаснiка Скарыны, таксама першадрукара, толькi ў лонданскiм Сiцi, спадар не хоча?!
— Каюся. Нават не ведаю, хто б гэта мог быць.
— Джон оф Летоу. Ян цi Iван–лiцвiн. Я пiсаў пра яго. Прынясу спадару копiю свайго артыкула.
 Оказалось, что типография Яна–литвина или Яна из Литвы была основана в лондонском Сити (старом городе) в 1480 году — всего через три года после того, как Вильям Кекстон открыл первую печатную мастерскую на Британских островах. Сведения о дате и месте рождения Джона оф Летоу неизвестны. Но поскольку «литвин» в данном случае пишется с малой буквы, логично допустить, что обозначало оно не этническое, а государственное происхождение — гражданство Великого Княжества Литовского. Возможно, его родиной стали земли того же Полоцкого княжества, что и у Скорины, который, как считают некоторые исследователи, в 1480 году был уже юношей.
Оказалось, что типография Яна–литвина или Яна из Литвы была основана в лондонском Сити (старом городе) в 1480 году — всего через три года после того, как Вильям Кекстон открыл первую печатную мастерскую на Британских островах. Сведения о дате и месте рождения Джона оф Летоу неизвестны. Но поскольку «литвин» в данном случае пишется с малой буквы, логично допустить, что обозначало оно не этническое, а государственное происхождение — гражданство Великого Княжества Литовского. Возможно, его родиной стали земли того же Полоцкого княжества, что и у Скорины, который, как считают некоторые исследователи, в 1480 году был уже юношей.
По мнению Гая Пикардо, Ян–литвин мог учиться в Праге, где при Карловом университете существовала коллегия, основанная женой Ягайло, королевой Ядвигой, для молодежи из ВКЛ, а типографским мастерством овладевать в Италии, у Джона Буля (на это указывает сходство шрифтов). В Лондоне современник и соотечественник Скорины издал несколько книг по юриспруденции. Но после 1486 года будто исчез из Англии. Возможно, вернулся в Краков и помогал там Швайпольту Фиолю издать в 1498 году первую церковнославянскую книгу «Триодь постная».
Неужели, подумалось тогда, среди лондонских манускриптов не сохранился документ, засвидетельствовавший хотя бы место рождения одного из английских первопечатников?!
О первопечатнике белорусском
Имя Франциска Скорины в Англии известно давно. Как я убедился сам, и пражские, и виленские его издания есть в знаменитой Британской библиотеке. С начала ХIХ века белорусский первопечатник неизменно фигурирует в работах британских славистов и библистов.
 Мне кажется, принципиальное значение для белорусских исследователей имеет работа шотландского ученого Э.Гендерсона «Библийные исследования и путешествия в Россию, включая поездку в Крым и проезд по Кавказу», изданная в Лондоне в 1826 году и неизвестная в Беларуси. К сожалению, мы не можем точно сказать, побывал ли признанный во всей Европе специалист по библейским текстам в Полоцке, но издания Скорины он знал досконально, что позволило ему дать ответ на вопрос, над которым наши исследователи бьются до сих пор. С какого языка переводил Библию славный сын Полоцка? Одни категорично утверждают: конечно, с церковнославянского, с текстов, завещанных Кириллом и Мефодием. Другие не менее категоричны: с латинской Вульгаты, может быть, с использованием уже изданного чешского текста. Третьи апеллируют к греческой Септуагинте, четвертые — к оригиналу, древнееврейскому языку. И никаких сомнений, никаких сопоставлений. Ибо чтобы сравнивать, надо знать все эти языки. А у нас знают в лучшем случае два–три из них.
Мне кажется, принципиальное значение для белорусских исследователей имеет работа шотландского ученого Э.Гендерсона «Библийные исследования и путешествия в Россию, включая поездку в Крым и проезд по Кавказу», изданная в Лондоне в 1826 году и неизвестная в Беларуси. К сожалению, мы не можем точно сказать, побывал ли признанный во всей Европе специалист по библейским текстам в Полоцке, но издания Скорины он знал досконально, что позволило ему дать ответ на вопрос, над которым наши исследователи бьются до сих пор. С какого языка переводил Библию славный сын Полоцка? Одни категорично утверждают: конечно, с церковнославянского, с текстов, завещанных Кириллом и Мефодием. Другие не менее категоричны: с латинской Вульгаты, может быть, с использованием уже изданного чешского текста. Третьи апеллируют к греческой Септуагинте, четвертые — к оригиналу, древнееврейскому языку. И никаких сомнений, никаких сопоставлений. Ибо чтобы сравнивать, надо знать все эти языки. А у нас знают в лучшем случае два–три из них.
А Гендерсон знал! И языки, и сами издания (например, экземпляр Книги Бытия ему давал для штудирования в Петербурге профессор Круг), и мнения о Скорине чеха Йозефа Добровского. На десяти страницах цитировал, сравнивая, тексты на самых разных языках. И пришел к выводу: старобелорусская Библия восходит прежде всего к латинской Вульгате. Но многие места красноречиво свидетельствуют: великий гуманист, подыскивая адекватный эквивалент, часто обращался и к церковнославянскому, и к греческому переводам. Поэтому скорининский текст существенно отличается от всех предыдущих, явственно приобретает черты «оригинальности и самостоятельности». Значит, Скорина шел своим путем по сравнению с другими переводчиками, из всех доступных источников брал то, что ему больше всего подходило.
И еще, мне кажется, заслуживает нашего внимания утверждение Гендерсона (больше я такого нигде не встречал), что Скорина взялся за перевод и издание Библии по предложению польского короля Сигизмунда Старого, которого сопровождал в 1515 году в Вену. В этом же городе первопечатнику легко было раздобыть «славянский шрифт», необходимый для его пражских (а потом и виленских) изданий.
Шотландский ученый преклонялся перед гражданственностью, мужеством полочанина. Ведь Священное Писание до него переводили люди духовного сана, а Скорина был светским человеком (не «черным монахом», как утверждалось в советские времена), доктором медицины. Правда, боясь обвинений в святотатстве (не из–за этого ли жгли его книги?), ему приходилось, подчеркивает Гендерсон, ссылаться на пример апостола Луки, тоже лекаря.
 О Скорине писал также современник Гендерсона английский библист Джеймс Таунли. В своей книге «Библейские анекдоты, иллюстрирующие историю Священного Писания и его ранние переводы на разные языки» (Лондон, 1813) сначала он обвинил белорусского первопечатника чуть ли не в святотатстве за то, что на гравюре к его Пятикнижию Святая Троица одинаково благословляет сверху и ангелов, и «адских духов». Но дальше хвалит то же Пятикнижие, потому что ему предшествует предисловие, а после каждого раздела следует резюме. А все вместе «украшено гравюрами, заглавными буквами и виньетками».
О Скорине писал также современник Гендерсона английский библист Джеймс Таунли. В своей книге «Библейские анекдоты, иллюстрирующие историю Священного Писания и его ранние переводы на разные языки» (Лондон, 1813) сначала он обвинил белорусского первопечатника чуть ли не в святотатстве за то, что на гравюре к его Пятикнижию Святая Троица одинаково благословляет сверху и ангелов, и «адских духов». Но дальше хвалит то же Пятикнижие, потому что ему предшествует предисловие, а после каждого раздела следует резюме. А все вместе «украшено гравюрами, заглавными буквами и виньетками».
Будный пишет Фоксу
Как известно, просветительскую эстафету от Франциска Скорины принял Сымон Будный, издавший в 1562 году в Несвиже Катехизис — первую белорусскую книжку на нынешней белорусской территории. У него сложились обширные европейские связи, в том числе с английским мыслителем Джоном Фоксом.
Я знал, что в Оксфорде, в знаменитой на весь мир Бодлианской библиотеке, основанной еще в 1595 году, хранится письмо белорусского реформатора к пламенному английскому публицисту, автору популярной «Книги мучеников» (1563), известное лишь в отрывках. И вот сижу в читальном зале дюка Хамфри, где в арочных окнах светятся разноцветные витражи, с портретов на тебя сурово смотрят государственные мужи, а подпертый резными кронштейнами потолок поделен на квадраты, в каждом из которых — раскрытая книга с каким–либо поучением. Старые фолианты стоят в три этажа вдоль стен над длинными столами из почерневших дубовых досок. На один из них, выбранный мной, ложится толстый конволют — сборник из книг, находящийся в коллекции Раулинсона под номером 107–с и переплетенный в кожу. А в конволюте не без труда нахожу четыре листа, исписанные угловатым решительным почерком Будного. Датированы они 1574 годом и отправлены в Англию из местечка Лоск. Надоумил же его отправить послание английский купец Раф Ратер, заглянувший (очевидно, не случайно) в это маленькое, но имеющее типографию местечко под Кревом на пути в Москву или из Москвы.
Как видно из содержания письма, Будного тогда волновали различные философские и богословские проблемы (о сущности бытия, происхождении Христа), по которым он просил высказаться английского «светоча». Одновременно белорусский просветитель бегло изложил собственные философские взгляды, дал новую филологическую трактовку отдельным местам из Евангелия. В конце Будный обещает, получив ответ, выслать Фоксу свои книги. Было это осуществлено или нет — неизвестно.
Заказав фотокопию письма (после передана в библиотеку Института литературы АН БССР), перешел от рукописи к белорусским печатным изданиям XVI — XVII веков. Их в библиотеках Оксфордского университета довольно много. Это и «Грамматики», и «Азбуки», и «Часословы», изданные в типографиях Великого Княжества Литовского. Попали они за Ла–Манш самыми различными путями.
А еще в Оксфорде, в Ашмолейском музее, встретился с произведениями своего земляка Леона Бакста, родившегося в Гродно в 1866 году. Теперь его полотна, эскизы театральных декораций и костюмов, разбросанные по всему миру, ценятся очень высоко. В Ашмолейском музее оказалось свыше десяти рисунков Бакста. Особенно впечатляет портрет Андрея Белого, вглядывающегося в мир вопрошающими и добрыми глазами, и рисунок «Танцующая Айседора Дункан».
Белорусская типография в Тотнеме
 Дело Скорины, Будного и отчасти Яна–литвина продолжил уже в середине ХIХ века уроженец Подвинья Александр Рыпинский. Участник восстания 1831 года, друг и единомышленник декабриста Вильгельма Кюхельбекера, он сначала оказался во Франции, где сблизился с Адамом Мицкевичем и, очевидно, под его влиянием написал и издал в Париже книгу «Беларусь». В 1846 году переехал в Лондон, занялся там поэтической и издательской деятельностью, преподавал в пригороде Лондона Тотнеме рисование, увлекся фотографированием (первый из белорусов?). Вместе с уроженцем Новогрудчины Игнатием Яцковским основал в Тотнеме Вольную славянскую типографию.
Дело Скорины, Будного и отчасти Яна–литвина продолжил уже в середине ХIХ века уроженец Подвинья Александр Рыпинский. Участник восстания 1831 года, друг и единомышленник декабриста Вильгельма Кюхельбекера, он сначала оказался во Франции, где сблизился с Адамом Мицкевичем и, очевидно, под его влиянием написал и издал в Париже книгу «Беларусь». В 1846 году переехал в Лондон, занялся там поэтической и издательской деятельностью, преподавал в пригороде Лондона Тотнеме рисование, увлекся фотографированием (первый из белорусов?). Вместе с уроженцем Новогрудчины Игнатием Яцковским основал в Тотнеме Вольную славянскую типографию.
Исследование Рыпинского «Беларусь» и изданная в Тотнеме романтическая баллада «Нячысцiк» давно вошли в курсы белорусской литературы для высших и даже средних учебных заведений. Но вот что он был также и плодовитым польским поэтом, я узнал только в знаменитой Британской библиотеке. Там, в круглом зале, в мои руки попали два тома «Стихотворений, писанных во время паломничества» (1853 — 1856), а также книги «Генералу Дембинскому, стихи с музыкой и рисунками» (1853), «Сержант–философ: Легенда или сон о переселении душ» (1856), «Два явления: Историческая поэма, эпизод войны дружественных западных государств с Россией» (1857), «Наши побеждают! Историческое песнопение» (1857), «Стихотворение, посвященное полковнику Кристину Ляху Ширме, председателю Исторического кружка в Лондоне» (1857). Все они вышли из–под пера Рыпинского и увидели свет в Вольной славянской типографии. Их художественный уровень невысок, зато познавательный — значителен.
В 1859 году, после царской амнистии, Рыпинский вернулся на Витебщину, где писал белорусские стихи (некоторые сохранились) и историю белорусской литературы (была у профессора Пиотуховича, пока не найдена).
...В Тотнем мы поехали вдвоем с Гаем Пикардо. Сначала в музее, размещенном в местном замке Брус, посмотрели художественные произведения Рыпинского, мастерски оформленные им дипломы для выпускников школы Игл–хауз, где наш соотечественник преподавал рисование и французский язык. Затем по старой карте еще раз проверили, в каком же доме находилась Вольная славянская типография. Оказалось — в сохранившемся двухэтажном. На первом его этаже находился паб, куда мы спрятались от проливного дождя. В пустом зале из–за стойки на нас безразлично смотрел чернокожий бармен, и, чтобы как–то заинтересовать его, на ломаном английском я сказал ему, что здесь белорус Рыпинский издавал свои книги. Ноль внимания. Тогда добавил: «На этом доме должна находиться мемориальная доска». Бармен парировал: мол, не ему же ее устанавливать. Я согласился: конечно, не ему, у белорусов есть Министерство культуры. Но если бы на здании висела доска, то, быть может, у него было бы больше посетителей... Ради приличия хозяин поинтересовался, сколько же этих белорусов. Я ответил: «В Великобритании — около тысячи, а на востоке Европы — около 10 миллионов». И тут бармена будто подменили: он стал чуть ли не требовать, чтобы скорее установили эту мемориальную доску!
 Шутки шутками. А со временем от имени комиссии «Вяртанне» и Белорусского фонда культуры мэру Большого Лондона было направлено обстоятельное письмо с перечислением заслуг Рыпинского. Думалось: может, к общественной организации скорее прислушаются, чем к госучреждению. А вышло наоборот: чиновники везде обращают больше внимания на чиновников. Значит, есть надежда, что в данной ситуации могут услышать голос Министерства иностранных дел или Министерства культуры. И тогда в Западной Европе были бы уже две белорусские мемориальные доски (первая — парижская, посвященная Наполеону Орде). Тем, кто заинтересуется данной информацией, сообщаю адрес: Гроув–плэйс, дом № 5. За него в 1855 году Александр Рыпинский платил 20 фунтов арендной платы.
Шутки шутками. А со временем от имени комиссии «Вяртанне» и Белорусского фонда культуры мэру Большого Лондона было направлено обстоятельное письмо с перечислением заслуг Рыпинского. Думалось: может, к общественной организации скорее прислушаются, чем к госучреждению. А вышло наоборот: чиновники везде обращают больше внимания на чиновников. Значит, есть надежда, что в данной ситуации могут услышать голос Министерства иностранных дел или Министерства культуры. И тогда в Западной Европе были бы уже две белорусские мемориальные доски (первая — парижская, посвященная Наполеону Орде). Тем, кто заинтересуется данной информацией, сообщаю адрес: Гроув–плэйс, дом № 5. За него в 1855 году Александр Рыпинский платил 20 фунтов арендной платы.
А был ли Багрим?
В Британской библиотеке мне удалось также найти произведения напарника Рыпинского по созданию Вольной славянской типографии Игнатия Яцковского. Это адвокат с Новогрудчины, память которого сохранила одно–единственное дошедшее до нас (но зато какое!) стихотворение крестьянского подростка из Крошина, что под Барановичами, Павлюка Багрима, названное по первой строке «Заграй, заграй, хлопча малы...» Оно напечатано в воспоминаниях Яцковского «Повесть из моего времени, или Литовские приключения», изданных в Лондоне в начале 1850–х годов.
Недавно профессор белорусского и варшавского университетов Николай Хаустович выступил с довольно вескими утверждениями, что стихотворение «Заграй, заграй, хлопча малы...» написано не Павлюком Багримом (хотя существование в Крошине такого юноши не отрицается), а самим Яцковским. Мысли эти изложены в солидной монографии, приняты другими исследователями. Но меня (возможно, я слишком традиционен) эти утверждения не убедили. Ну, во–первых, в стихотворчестве, во владении белорусским языком Яцковский больше нигде не был замечен. Во–вторых, что ему давала эта придумка, присвоение его собственного произведения другому лицу? В–третьих, какие–либо мистификации вообще не были свойственны новогрудскому юристу. В этом я убедился, читая там же, в Британской библиотеке, сборник Игнатия Яцковского «Политические произведения», изданный лондонской Вольной славянской типографией в 1853 году. «Политические произведения» состоят из статей, написанных Яцковским в 1840–е годы в Великобритании. Они свидетельствуют о том, что в авторе сочетались пламенный публицист и вдумчивый мыслитель–социолог, которым может гордиться новогрудская земля, что автор — непримиримый враг царского самодержавия (статья «Зачем в Лондон приезжал Николай»). Яцковский разуверился и в западном республиканизме. «В республиканских Соединенных Штатах Северной Америки, — полемизировал юрист с оппонентами, — порабощенность крестьян куда больше, чем в Польше; наказание смертью ждет того, кто выступит с проектом послабления этой неволи». Но автор не идеализировал и жизнь на своей родине, признавая: из всех стран она «самая бедная», ибо крестьяне «здесь едят хлеб с мякиною».
А теперь вернусь к Павлюку Багриму, чья мастерски выкованная жирандоль висит в крошинском костеле, а могила находится рядом с храмом. Его личность, его всесторонние таланты реальны и убедительны. Поэтому я пока отношусь к утверждениям Хаустовича довольно осторожно, считаю их серьезными, но лишь вероятными. Стопроцентную уверенность могут дать только документы архива Вольной славянской типографии либо личное рукописное собрание Яцковского, если они сохранились в Лондоне.
Английский Ширма
И еще одно лицо из окружения Вольной славянской типографии стоит нашего внимания и дальнейших поисков. Это эмигрант Кристин Лях Ширма. Его письмо напечатано в конце второго тома поэтического двухтомника Александра Рыпинского, найденного в Британской библиотеке. И оно стоит того, чтобы сделать из него обширную цитату: «Хотя и небольшой из меня русин (т.е. белорус. — А.М.), однако я внимательно два раза прочел балладу «Нячысцiк» и удивлялся, что этот говор ты еще помнишь спустя столько лет и что столько богатства в ней (...) Так называемый классицизм в нашей (польской. — А.М.) литературе, хотя в свое время и был нужен, немало нам в более раннюю эпоху навредил, ибо не давал поэзии и даже прозе возможности пользоваться богатыми запасами народного языка. Я очень полюбил его, хотя был воспитан на греческих и римских классиках, давно собирал народные песни. Случайное знакомство с Ходаковским (одним из зачинателей славянской фольклористики родом из–под Гайны на Логойщине. — А.М.) тем более меня к этому подбодрило, и уже в 1817 году (насколько помню) на фоне народных песен создал я балладу «Ясь и Галина» и несколько других, печатавшихся в Dzienniku Wilenskim.
Таким образом, Кристина Ляха Ширму можно считать одним из первых белорусских фольклористов, зачинателей того пути, по которому в ХХ веке шел и Рыгор Ширма. Хотя записи белорусских народных песен, сделанные другом Рыпинского (они были на «ты»), до сих пор, кажется, не найдены, но зато легко отыскать польские произведения этого «русина», основанные на белорусском фольклоре.