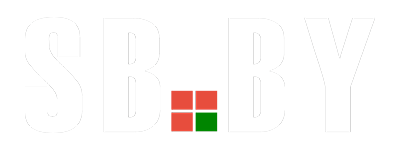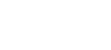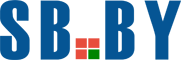В зоне радиационного загрязнения он оказался через две недели после аварии на Чернобыльской АЭС. Не ради льгот, наград или доплат — Родина сказала: «Надо!»

Пророчество
Выбор профессии состоялся в раннем детстве, шутит Сергей Ковалевич. Помог чрезвычайный случай.— Летом я отдыхал у дедушки в деревне Корма Добрушского района. Как-то начался сильный пожар. Переполох, взрослые бегают, собирают детей, чтоб отвести в безопасное место. А меня никак не могут найти. Как потом рассказывала тетя, вдруг открывается дверь погреба, выхожу я и кричу: «Здесь я!» И взрослые поняли, что это лучшее убежище. Получается, не только сам выбрал его, но и другим подсказал. А когда с огнем справились, я пошел на пепелище смотреть, как его проливают, чтоб не вспыхнуло снова. И тут меня с головы до ног окатывает водой: попал под струю. Помню, как какой-то дядька рассмеялся и сказал: «Ну все, будешь пожарным!»
До армии Сергей окончил техникум, успел поработать на гомельском станкостроительном заводе имени Кирова. Вернувшись в 1985-м, хотел опять пойти на завод. Однако в отделе кадров разочаровали: нет вакансий. Пришлось обращаться в городскую службу занятости, где предложили место в пожарной охране. Стоит отметить: в те годы эта профессия не считалась престижной. Да и зарплаты в ней до того, как служба стала военизированной, оставляли желать лучшего. Однако Сергей решил попробовать — так сбылось предсказание из детства.

Затишье после бури
Местом службы стала пожарная часть, которая обслуживала два крупных предприятия — «Ратон» и «Коралл». Распорядок дня во время суточных дежурств напоминал армейский. Инспектирование объектов, учебные занятия, тренировки по пожарно-прикладному спорту. А также регулярное прохождение медкомиссии. Особой придирчивостью отличался врач-стоматолог, и неспроста. В те годы для работы в задымленных помещениях пожарные использовали кислородные изолирующие противогазы. При наличии кариеса кислород усугублял болезнь, способствуя ее развитию. Сейчас такой проблемы нет: в дыхательных аппаратах, состоящих на вооружении в МЧС, применяется сжатый воздух.К весне 1986-го Сергей Ковалевич был пожарным чуть менее года. Описывая субботу 26 апреля, он рассказывает про внезапно налетевший смерч, напоминавший песчаную бурю. Нехарактерное природное явление в Гомельской области упоминают большинство из тех, кто запомнил тот роковой день.
Официального сообщения об аварии не было. Однако слухи множились с поразительной скоростью. Сергей Александрович узнал о происшествии от одного из коллег:
— Честно говоря, поначалу его словам не придавали особого значения. Про Чернобыльскую АЭС вообще не знали, раньше слышать о ней не доводилось. Ну, допустим, была авария, что-то горело. Так потушили ведь, в чем проблема? Масштабов случившейся катастрофы тогда никто еще не представлял.
А через неделю, когда секрета уже не было, пожарным сообщили про формирование сводных отрядов для ликвидации последствий.

Нужны были добровольцы. Сергей Ковалевич подчеркивает: вопрос ставился именно так. Категорического приказа, угроз увольнением и прочих форм принуждения не было. Наград и доплат тоже не обещали. Впрочем, ни кнута, ни пряника не требовалось, потому что людей было достаточно.
— Даже и мысли у меня не возникло отказаться. В зону ехали мои товарищи, с которыми мне потом работать и в прямом смысле идти в огонь. Как бы я смотрел им в глаза?
Родных пожарный поставил перед фактом: еду в командировку. Отговаривать никто не пытался. Надо значит надо. По такому принципу воспитывалось большинство советских людей.
Зона отчуждения
Пунктом назначения стала деревня Стреличево в Хойникском районе. В километре от нее находился контрольно-пропускной пункт, на котором дежурили пожарные. В их задачу входила дезактивация техники, покидавшей зону загрязнения, а также привычная работа по тушению пожаров. Происходили они регулярно из-за жары, но и не только. После поспешной эвакуации в некоторых домах оставались включенными электроприборы, горел свет. Опустевшие деревни производили тяжелое впечатление.— Едем, а за машиной собаки бегут, лают, будто просят, чтобы их забрали. Ворота распахнуты, живность домашняя бродит, на дороге — куры, попавшие под колеса. И ни одного жителя. Только военные на бронетранспортерах ездят. Врезалась в память сцена, которую увидел в одной еще не отселенной деревне. Стоит знак радиационной опасности, рядом куча песка, а в нем малыши копошатся…

Коснувшись темы быта, вспоминаем эпизод из нашумевшего американского сериала «Чернобыль». А именно сцену, в которой «ликвидаторам» привозят ящики с водкой. Этот художественный вымысел ветеран считает полной чушью:
— Такого просто не могло быть! Начнем с того, что в те годы водка была одним из главных дефицитов, поскольку в СССР шла антиалкогольная кампания, объявленная Горбачевым. Врать не стану: абсолютного сухого закона у нас там не было. Мужики могли выпить перед сном стопку-другую для снятия стресса. Но до беспамятства никто не напивался и пьяным за рулем не гонял. Все было как в обычной жизни.
Люди едины
Первая чернобыльская командировка Сергея Ковалевича продлилась неделю. Два года спустя он снова оказался в зоне отчуждения. Теперь усилия были сосредоточены на тушении лесных и торфяных пожаров в Брагинском районе. Вести борьбу с огнем довелось на протяжении двух недель.
— Воды в автоцистернах хватало на считаные минуты. Выкачивали ее из мелиоративных канав, опустошая их иногда досуха. На дне оставались ползать змеи, лягушки и черепахи. Машины нередко грузли в торфяниках. Застрянет одна, вторая пытается вытянуть, и вот уже обе буксуют — нужно гнать третью. И все это в густом дыму на фоне пожара.

Многое зависело от мастерства водителя. Наш был классный, ни разу не застрял — сами всех вытягивали. Работа была трудной, непростой, но и опыт получили колоссальный. Он очень пригодился, когда довелось тушить торфяники на Полесье уже в начале 2000-х.
За участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Сергей Ковалевич был награжден знаком ЦК ВЛКСМ СССР «Воинская доблесть». До 2008 года продолжал работать в одной из частей Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Вышел в отставку в звании капитана внутренней службы.
В конце разговора Сергей Александрович вспоминает еще один впечатливший его эпизод:
— Во время первой чернобыльской командировки тушили пожар в жилой деревне. И вот почему-то ярко запомнилось поведение жителей. Ни одного равнодушного зеваки не было! Все независимо от возраста бегали, носили воду, передавали ведра. Подходили к нам, спрашивали, какая еще помощь нужна.

prolesk@sb.by