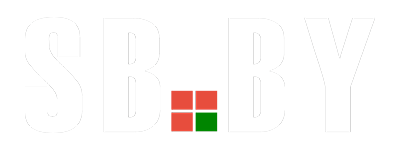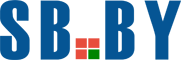|
|
Воин и музыкант
Юрий Семеняко |
До того момента, когда Страна Советов стала историей, он не дожил. Почти все из доступных сведений о нем — приглаженные, лишенные подробностей отсылки к изданным давным–давно музыкальным сборникам и энциклопедиям: родился в Минске, учиться музыке начал в Феодосии, продолжил в Белостоке, дальше — война, Берлин, победа, коллектив Григория Ширмы, первые песни и первая слава. Которая, может, слегка и померкла за 70 лет (именно столько исполнилось «Явару i калiне», одному из первых сочинений Юрия Семеняко), но факты таковы, что вспоминать его имя будут еще долго и по разным поводам. Не в последнюю очередь с «Явара i калiны» началась послевоенная популярность академической хоровой капеллы  Беларуси теперь уже имени Ширмы. С песней «Ты мне вясною прыснiлася» «Лявоны» стали «Песнярами» на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Несколько лет спустя в том же конкурсе победили «Верасы» — и снова с песней Юрия Семеняко... Вообще, его музыка часто становилась чем–то вроде талисмана, оборачиваясь для ее исполнителей новой, счастливой судьбой. В 1971 году опереттой «Поет «Жаворонок» открыл свой первый сезон театр музкомедии в Минске. Оперетту Юрий Семеняко написал специально для Бобруйского театра музкомедии (точнее, Могилевского областного — так он тогда назывался). С ней бобруйские артисты приехали в Минск на гастроли, но вряд ли рассчитывали на то, что спектакль увидит Машеров, тут же подпишет распоряжение о создании минской оперетты и предложит им стать ее первыми звездами.
Беларуси теперь уже имени Ширмы. С песней «Ты мне вясною прыснiлася» «Лявоны» стали «Песнярами» на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Несколько лет спустя в том же конкурсе победили «Верасы» — и снова с песней Юрия Семеняко... Вообще, его музыка часто становилась чем–то вроде талисмана, оборачиваясь для ее исполнителей новой, счастливой судьбой. В 1971 году опереттой «Поет «Жаворонок» открыл свой первый сезон театр музкомедии в Минске. Оперетту Юрий Семеняко написал специально для Бобруйского театра музкомедии (точнее, Могилевского областного — так он тогда назывался). С ней бобруйские артисты приехали в Минск на гастроли, но вряд ли рассчитывали на то, что спектакль увидит Машеров, тут же подпишет распоряжение о создании минской оперетты и предложит им стать ее первыми звездами.
 Беларуси теперь уже имени Ширмы. С песней «Ты мне вясною прыснiлася» «Лявоны» стали «Песнярами» на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Несколько лет спустя в том же конкурсе победили «Верасы» — и снова с песней Юрия Семеняко... Вообще, его музыка часто становилась чем–то вроде талисмана, оборачиваясь для ее исполнителей новой, счастливой судьбой. В 1971 году опереттой «Поет «Жаворонок» открыл свой первый сезон театр музкомедии в Минске. Оперетту Юрий Семеняко написал специально для Бобруйского театра музкомедии (точнее, Могилевского областного — так он тогда назывался). С ней бобруйские артисты приехали в Минск на гастроли, но вряд ли рассчитывали на то, что спектакль увидит Машеров, тут же подпишет распоряжение о создании минской оперетты и предложит им стать ее первыми звездами.
Беларуси теперь уже имени Ширмы. С песней «Ты мне вясною прыснiлася» «Лявоны» стали «Песнярами» на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Несколько лет спустя в том же конкурсе победили «Верасы» — и снова с песней Юрия Семеняко... Вообще, его музыка часто становилась чем–то вроде талисмана, оборачиваясь для ее исполнителей новой, счастливой судьбой. В 1971 году опереттой «Поет «Жаворонок» открыл свой первый сезон театр музкомедии в Минске. Оперетту Юрий Семеняко написал специально для Бобруйского театра музкомедии (точнее, Могилевского областного — так он тогда назывался). С ней бобруйские артисты приехали в Минск на гастроли, но вряд ли рассчитывали на то, что спектакль увидит Машеров, тут же подпишет распоряжение о создании минской оперетты и предложит им стать ее первыми звездами.— Как ни странно, папина творческая биография с самого начала складывалась благополучно, — подтверждает дочь Ирина Семеняко, заведующая фортепианным отделением Республиканской гимназии–колледжа при Белорусской государственной академии музыки. — А ведь сын «врагов народа»...
Путь
— Дедушка был родом из–под Белостока и считал себя белорусом, — продолжает Ирина Юрьевна. — В 1920–е годы, когда Белосток вернули Польше, они с бабушкой фактически пешком пришли в Минск — в свое время бабушка училась здесь в гимназии, оставались родственники. А в 1933–м деда арестовали как польского шпиона — тогда он работал фотокорреспондентом в газете. Бабушка подхватила детей, уехала к родным в Феодосию. Там ее, конечно, быстро нашли, отправили в лагерь для жен изменников Родины... До последнего времени мы были уверены, что дедушка умер в лагере — только после перестройки удалось узнать, что его расстреляли почти сразу. Но до папы эта информация уже не дошла.

Его «Явар i калiну» уже поют повсюду
Детей растили дедушкины сестры. Все они были очень музыкальными... Хотя о детстве папа почти не рассказывал — видимо, считал, что ни к чему нам знать все, что он пережил. Другое дело — о войне. К призывному возрасту он окончил музыкальное училище в Белостоке, работал тапером в ресторанах. И когда через Белосток проходила Красная Армия, кто–то из командования услышал его импровизации и предложил присоединиться к музыкальному взводу: настроение было уже победное, людям хотелось праздника, музыки. Так, с музыкой папа и дошел до Берлина.
Корыто
Когда началась перестройка и вдруг обо всем стали писать прямо, многое даже для папы стало откровением. Но злобы по отношению к своему времени и людям, погубившим родных, не появилось и тогда. Других таких — в смысле масштаба личности — я и близко не встречала. В его большом сердце было столько прощения... Папа был очень добрым человеком. Бесконечно. И терпеливым. Постоянно помогал выбивать коллегам квартиры, звания, повышенные ставки — ресурс был, имя Юрия Семеняко знали все, грех не воспользоваться. Если не получалось решить вопрос сразу, шел просить в другое место — ходить мог долго, выхаживал, пока не добьется. Нигде и никогда не повышая голоса, ни с кем не вступая в конфликты. А сам жил в коммуналке, в одной комнате со своей сестрой и мамой, на улице Советской (папина мама пережила лагерь и после смерти Сталина вернулась в родной Минск). Мы же, я и моя сестра, она на 10 лет старше, с нашей мамой и бабушкой обитали в бараке на Толстого. Когда я родилась, меня даже некуда было положить, под кроватку приспособили корыто, в этом корыте я и выросла. В крошечной 8–метровой комнате с постоянным запахом керосина, который помню до сих пор (вместо плиты у нас был керогаз). В конце концов моя бабушка потеряла терпение и пошла к Евгению Тикоцкому, тогда — председателю Союза композиторов. «Вы знаете, что у Юры должен был родиться мальчик?» — спросила она его с порога. «Ну да», — ответил ошарашенный Тикоцкий. «А родилась девочка! — грозно сказала бабушка. — А знаете почему? У них не было квартирных условий!» «У Семеняко нет квартиры?» — удивился Тикоцкий. И мы получили целых три комнаты на первом этаже дома по Ульяновской.


Молчание
Его музыка звучала уже всюду — со сцены, в кино, по радио. Но в детстве именно он водил меня в школу, кормил и терпеливо мерз у катка, пока я нарезала круги по льду. Мама была певицей, преподавала в пединституте, словом, работала, а папа — всегда дома. Правда, там я чаще всего видела его спину: просыпался, шел к инструменту и писал. Процесс творчества никогда не был для него мучительным.


И вдруг музыка перестала звучать. Хорошо помню тот день — папа сел к инструменту и неожиданно сказал: «Не пишется». Тогда еще никто не знал, что он уже тяжело болен. И музыка не вернется, хотя он до самого конца был уверен, что вдохновение, никогда раньше не подводившее, покинуло его только на время...
Мотив
Наверное, самым счастливым папиным временем был тот период, когда он писал оперу «Зорка Венера». Известная всем песня Семена Рак–Михайловского, авторство которой иногда приписывают Юрию Семеняко, тогда была очень популярна, часто звучала по радио, и многие считали ее народной (кстати, позже автором песни «Зорка Венера» стали называть Владимира Мулявина. — Авт.) Имя репрессированного Рак– Михайловского вышло из тени только в последние годы. И хотя своих мелодий у папы всегда было в избытке, эта песня уже устойчиво ассоциировалась с личностью Максима Богдановича, оперу о котором он задумал вместе с Алесем Бачило. Не включить ее в это произведение было просто невозможно! Алесь Николаевич написал либретто, папа начал писать музыку. А потом из Воронежа приехал Семен Штейн, будущий многолетний режиссер нашей оперы, которого тогда специально пригласили на постановку «Зорки Венеры». Штейн прочитал либретто и категорически отказался «ставить оперу о больном человеке», так и заявил, хотя имя Богдановича слышал впервые. А потом каждый день приходил к нам домой и вдвоем с папой искал новые краски и мелодии.


C коллегой Дмитрием Смольским
Доверие
На семейном совете решили, что отдавать меня в музыкальную школу не будут, чтобы не позориться. К 6 годам абсолютно все я пела на одной ноте. Но все же пригласили позаниматься со мной знакомую. И когда она обнаружила у меня абсолютный слух, папа отправил меня сдавать экзамены в нынешнюю гимназию–колледж. Самостоятельно, в 6 лет... После точно так же я поступила в Московскую консерваторию — папа не хлопотал, не опекал, не контролировал. Был слишком занят? Скорее, верил в справедливый порядок вещей.
Сколько же любви должно быть в человеке, думаю я иногда, чтобы после всех личных перипетий сохранить в себе столько чистого света. Хотя если бы не музыка... Творчество — это ведь тоже уход от реальности.
cultura@sb.by
Советская Белоруссия № 184 (25066). Суббота, 24 сентября 2016