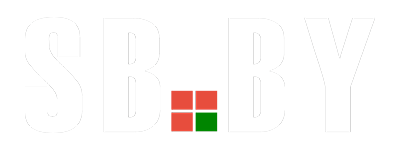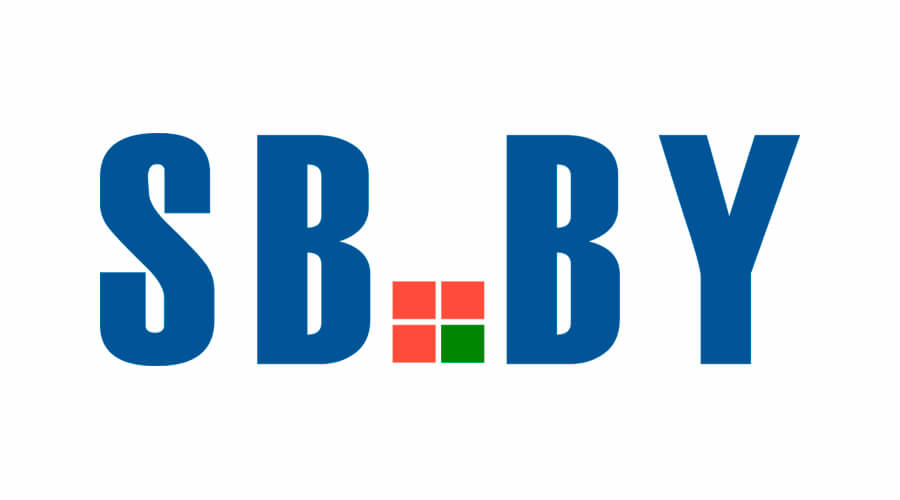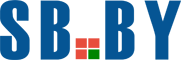Под конец прошлого года в прессе промелькнуло сообщение, что Папой Римским Бенедиктом XVI канонизирован Зыгмунт Щенсный Фелинский, бывший во время восстания 1863 года варшавским архиепископом, а потом политическим ссыльным. Эта весть не вызвала у меня особенных ассоциаций и эмоций. Только фамилия показалась знакомой. О революционерке и писательнице Еве Фелинской я опубликовал статью лет сорок назад как о нашей соотечественнице, рожденной в имении Узнога тогда Слуцкого уезда, а ныне Клецкого района. Подумалось: может, родственница? Вспомнилось еще, что санкт–петербургский белорусист Валентин Грицкевич посвятил ей раздел в своей книге «От Немана до Тихого океана» как одной из первооткрывательниц и защитниц народов сибирского Севера.
Под конец прошлого года в прессе промелькнуло сообщение, что Папой Римским Бенедиктом XVI канонизирован Зыгмунт Щенсный Фелинский, бывший во время восстания 1863 года варшавским архиепископом, а потом политическим ссыльным. Эта весть не вызвала у меня особенных ассоциаций и эмоций. Только фамилия показалась знакомой. О революционерке и писательнице Еве Фелинской я опубликовал статью лет сорок назад как о нашей соотечественнице, рожденной в имении Узнога тогда Слуцкого уезда, а ныне Клецкого района. Подумалось: может, родственница? Вспомнилось еще, что санкт–петербургский белорусист Валентин Грицкевич посвятил ей раздел в своей книге «От Немана до Тихого океана» как одной из первооткрывательниц и защитниц народов сибирского Севера.
Торжества в Клецке
И вот недавно, в июне, раздался звонок:
— Беспокоит вас культурная активистка из Клецка, из приходского костела во имя Святой Троицы, Чеслава Князева. Сердечно приглашаю вас приехать к нам в ближайшие субботу, воскресенье на международный симпозиум «Зыгмунт Щенсный Фелинский — святой облик в Беларуси». Мотивировка в программе такая: это был «великий муж славянских народов Беларуси, Польши, Украины, России».
— Большое спасибо, — отвечаю. — Но какое отношение ко всему этому имею я?
— Как какое? Самое непосредственное! Это вы первым в Беларуси написали в 1969 году в своей книжке «Падарожжа ў ХIХ стагоддзе» о матери нового святого Еве Фелинской. Ее как раз крестили в нашем костеле, а потом она работала в Клецке гувернанткой.
— Тогда сдаюсь, приезжаю. Думаю вот теперь, что воистину сказано: долгим иногда бывает путь от посева до жатвы...
Клецкое почитание Зыгмунта Щенсного Фелинского прошло очень торжественно и трогательно. Мессу служил в сопровождении трех священнослужителей епископ Антоний Демьянко, апостольский Администратор Минско–Могилевской католической архидиоцезии. На симпозиуме подробно говорилось о заслугах Фелинских и Вендорфов, предков Евы Фелинской, для клецкого края (а шире — для всей слуцкой земли, всей Минщины). Особенно взволнованно выступила гостья из Варшавы, сестра ордена «Семья Марии», основанного в Петербурге Фелинским, по имени Габриэля. Она продемонстрировала и подарила присутствующим книги самого архиепископа: увесистые «Воспоминания», повесть «Паулина», посвященную старшей сестре, а также богатую литературу о святителе на польском, русском (книга «Зыгмунт Щенсный Фелинский», изданная в Санкт–Петербурге в 2009 году) и белорусском (цветной буклет) языках. К ним были добавлены иконки с вкрапленными частицами мощей, календарики, значки.
В тот же день состоялась экскурсия в Голынку, родовое имение Вендорфов, где под опекой рано овдовевшей матери и дяди Адама прошло детство Евы Фелинской. Здесь она ходила по крестьянским домам (некоторые из них сохранились), в сопровождении старших раздавала больным зелье из собранных летом трав и другие снадобья. От имения остались служебные постройки, которые могут вызвать интерес у паломников–туристов, поскольку именно здесь проводил летние вакации Зыгмунт, ставший впоследствии святым.
 По дороге назад я узнал, что святая служба благодарения за канонизацию Зыгмунта Щенсного Фелинского прошла также в Глубоком, поскольку там есть сестры распространенного сегодня в мире любимого детища архиепископа — ордена «Семья Марии». В торжественной мессе участвовало духовенство из различных районов Витебщины.
По дороге назад я узнал, что святая служба благодарения за канонизацию Зыгмунта Щенсного Фелинского прошла также в Глубоком, поскольку там есть сестры распространенного сегодня в мире любимого детища архиепископа — ордена «Семья Марии». В торжественной мессе участвовало духовенство из различных районов Витебщины.
Следует сказать, что душой всех торжеств в Клецке был ксендз–настоятель Эрвин. Немец по национальности, он хорошо овладел белорусским языком (послушали бы вы, как поет руководимый им мужской хор), в Австрии, Германии и Италии собрал деньги на возрождение клецкого костела. И тем самым как бы продолжил меценатское и богоугодное дело своих соотечественников Вендорфов, предков Евы Фелинской, «людей общественных», участников, казалось бы, чужого для них освободительного движения в Беларуси.
Предки героев
Вернувшись домой, я тут же начал штудировать привезенную литературу — как полученную в подарок, так и одолженную в уютной библиотеке, расположенной в подземелье клецкого костела. И передо мной постепенно воскресали, выстраивались в логический и эмоциональный ряды герои жизненной драмы, развернувшейся в ХIХ столетии на землях четырех сопредельных народов — в Беларуси, Польше, России и Украине. Слуцкую и минскую земли тогда по традиции называли еще Литвой, но белорусизмы в текстах свидетельствуют, что это имя не этническое, а историческое, имя земель бывшего Великого Княжества Литовского.
Что же касается главных героев, то они связаны тесными семейными узами. Этические принципы обязывают назвать их в таком несколько необычном порядке: сын Зыгмунт Щенсный Потоцкий (1822 — 1895), мать Ева Фелинская (1793 — 1859), ее старшая дочь и сестра Зыгмунта Паулина (1819 — 1843) и ее супруг минский художник Адам Шемеш (1808 — 1864).
Но прежде всего уместно сказать несколько добрых слов об их заслуженных предках. История рода Фелинских восходит к витебскому мещанину Мареку Ильиничу Лытко. Участвуя в Инфлянтской войне со шведами, он показал чудеса мужества во время осады и штурма города Фелин. За это ему даровали дворянское звание, право иметь свой герб и использовать название города, где он совершил подвиг, в фамилии. Наследники мещанина Лытко, в том числе дед Зыгмунта Щенсного Фелинского Томаш, обзавелись имениями на северном и южном Полесье, в окрестностях Луцка, Житомира и Острога. Сын Томаша, Герард, в 1811 году заключил на Борисовщине брак с Евой. Сначала их дети умирали. Первой выжившей станет дочь Паулина, о которой речь пойдет дальше. В 1820 году родился сын Алойзий, а 20 октября (1 ноября) 1822 года — второй сын Зыгмунт Щенсный, которому был предопределен сложный, а в некоторые годы и трагический жизненный путь.
Не меньший интерес вызывают предки Евы Фелинской — немцы Вендорфы. На территории Речи Посполитой они появились в ХVI столетии в окрестностях Сандомира. В XVIII веке поселились на белорусских землях. Учили крестьян рациональному хозяйствованию, участвовали в «литовском» национально–освободительном движении. Так, Бронислав Вендорф, мировой посредник Слуцкого уезда, стал одним из организаторов и руководителей повстанческого отряда Машевского в 1863 году. Во время описываемых здесь событий Вендорфам принадлежали Узнога и Голынка. В последней бывал и Зыгмунт Щенсный Фелинский. Имя ему было дано в честь деда Зыгмунта Вендорфа.
Избранник небес
В детские и юношеские годы будущий Варшавский архиепископ ничем особенным не отличался от своих сверстников. Может быть, был более собранным, целеустремленным. В детстве учился в приходской школе в Несвиже. Потом Зыгмунта Щенсного Фелинского начали привлекать точные науки, и он изучал математику в стенах Московского университета. По его окончании сблизился с выдающимися польскими писателями Юльюшем Словацким и Юзефом Крашевским. Не без их влияния участвовал в освободительной «весне народов» 1848 года в Западной Европе, где пробыл три года. Совершенствовал свои знания в Сорбонне и Коллеж де Франс, где еще недавно читал лекции по славянским литературам сам Адам Мицкевич.
 Вернувшись на родину, под явным влиянием матери и друзей Зыгмунт Щенсный Фелинский решает поступить в духовную семинарию. Затем — Петербургская римско–католическая академия, преподавание в ней, профессорство, заведование кафедрой философии, одновременно — настойчивые старания, чтобы в северной столице разрешили открыть приют для убогих. И вдруг приходит из Варшавы весть о смерти архиепископа Фиялковского. Время было тогда неспокойное. Перед началом богослужений патриотки в траурных или национальных одеяниях стали исполнять запрещенные гимны, за что закрывались костелы. Требовался пастырь умеренный, с восточных территорий. Взоры невольно обратились к Фелинскому. 6 января 1862 года Папа Римский именовал его архиепископом Варшавским, а 25 января позвал его к себе император, напомнивший, что от него ожидают прекращения смуты, верноподданнической политики. На это новый пастырь ответил уклончиво: он, безусловно, будет за мирный путь разрешения национального конфликта, но духовные обязанности должен ставить выше светских. Сказанное насторожило Александра II.
Вернувшись на родину, под явным влиянием матери и друзей Зыгмунт Щенсный Фелинский решает поступить в духовную семинарию. Затем — Петербургская римско–католическая академия, преподавание в ней, профессорство, заведование кафедрой философии, одновременно — настойчивые старания, чтобы в северной столице разрешили открыть приют для убогих. И вдруг приходит из Варшавы весть о смерти архиепископа Фиялковского. Время было тогда неспокойное. Перед началом богослужений патриотки в траурных или национальных одеяниях стали исполнять запрещенные гимны, за что закрывались костелы. Требовался пастырь умеренный, с восточных территорий. Взоры невольно обратились к Фелинскому. 6 января 1862 года Папа Римский именовал его архиепископом Варшавским, а 25 января позвал его к себе император, напомнивший, что от него ожидают прекращения смуты, верноподданнической политики. На это новый пастырь ответил уклончиво: он, безусловно, будет за мирный путь разрешения национального конфликта, но духовные обязанности должен ставить выше светских. Сказанное насторожило Александра II.
Трагичность своей ситуации новый архиепископ ощутил уже на перроне Варшавского вокзала, куда прибыл поезд из Петербурга со специальным вагоном. На перроне не было верующих — только представители администрации Царства Польского, вроде бы самостоятельного, но полностью зависящего от императора. Фелинский прекрасно понимал, что в воздухе витает идея освободительного восстания. Но время для него было упущено: добренький царь–батюшка уже дал волю крестьянству, дает ему и землю, и, мол, бунтует, сопротивляясь, только обиженная шляхта — она, мол, на самом деле требует не «польщизны», а «панщизны». Кстати, Фелинский знал, что такие слухи особенно настойчиво распространяются на его родных белорусско–литовских и волынских землях.
Да и как мог новый архиепископ умиротворить верующих, если они встретили его настороженно, а то и враждебно? Первые возгласы о «ставленнике Петербурга», недостойном, чтобы занять кресло Фиялковского, раздались из ночной темноты, когда Фелинский садился в карету, высланную наместником Привислинского края. Назавтра обидные намеки продолжились. Но новый пастырь терпеливо переносил обиды. Смирение и доброта вскоре начали давать первые плоды: стали открываться двери закрытых святынь. Но внутренний разлад между долгом светским и долгом духовным все возрастал, особенно с началом вооруженного восстания. Начались жестокие репрессии, которые архиепископ тщетно пытался предотвратить. Он никого не осуждал, даже крайне «красных», считал, что и среди них есть достойные люди.
Противостояние достигло апогея, когда царские власти приказали повесить на стене Варшавской цитадели монаха–капуцина Агрипина Конарского. В знак протеста Фелинский, написав отчаянное письмо императору, подал в отставку. В ответ последовал приказ депортировать пастыря в Петербург, а оттуда отправить в ссылку в Ярославль. На Сибирь Александр II не решился: ведь выбор был как бы им лично утвержден, да и какова была бы реакция Европы?
В Ярославле Фелинский пробыл целых 20 лет. Время ссылки он превратил в годы напряженной духовно–просветительской работы. По соглашению с Ватиканом его отпустили лишь в 1883 году в Галицию — почти в изгнание. Ехал он туда уже поездом, через Минск–Литовский и Брест–Литовский во Львов, минуя, естественно, Варшаву (варшавский сан был деликатно заменен на титулярное архиепископство Тарса). Остаток своей жизни Фелинский провел, завоевывая всеобщее почитание, в глухой деревушке Дзвинячка, где прославился как апостол мира между разными народностями Австро–Венгрии. Писал воспоминания, издал повесть о своей старшей сестре Паулине. Скончался Фелинский, проезжая через Краков. Позже его прах был с почестями перенесен в варшавский кафедральный собор.
Мать
Не менее светлой и одновременно трагической личностью представляется мне революционерка и писательница Ева Фелинская, мать Зыгмунта, жена Герарда и дочь Зыгмунта, но уже не Фелинского, а Вендорфа. Детство ее, как уже говорилось, прошло в наследственном имении Вендорфов Голынке, где она ходила в приходскую школу вместе с крестьянскими детьми. Учебу продолжила в знаменитой Слуцкой гимназии. После брака с Герардом переехала в его небольшое именьице Воютин в окрестностях Луцка. Учила крестьян рациональному ведению хозяйства, но понимала уже, что для коренного изменения народной жизни этого явно недостаточно. Поэтому, связавшись в 1838 году с тайным виленским объединением под руководством неуловимого Шимона Конарского, скрывавшегося одно время в Воютине, создала под псевдонимом Скала филиал объединения — «Женское общество», которое начало вести работу среди крестьян. И это, как свидетельствуют историки, была первая женская нелегальная организация на всех белорусско–литовско–украинских просторах. Деятельность «Женского общества» показалась властям настолько опасной, что ее руководительница была немедленно арестована и доставлена в прославленную Киевскую цитадель, а оттуда Скалу, разлучив с детьми, отправили в сибирскую ссылку — в Березов Тюменской губернии, недалеко от устья Оби в море.
 По словам живущего в Петербурге историка Валентина Грицкевича, Ева Фелинская была первой европейской женщиной, подружившейся с сибирскими туземцами, хантами, мансийцами и ненцами, считавшей их высокоморальными и способными людьми и описавшей их, называя остяками, в своих довольно осторожных дневниках. Сенсационность их заключалась не только в том, что как очевидец автор точно описала быт и нравы жителей юрт, в которых побывала сама, но прежде всего в том, что подробно был восстановлен ход восстания ненцев и хантов под руководством мужественного Ваули Пиеттомине. Это был не разбойник, как утверждали власти, а защитник обездоленных единоплеменников. Схватить же его, утверждает Фелинская, удалось только обманом, заманив в западню.
По словам живущего в Петербурге историка Валентина Грицкевича, Ева Фелинская была первой европейской женщиной, подружившейся с сибирскими туземцами, хантами, мансийцами и ненцами, считавшей их высокоморальными и способными людьми и описавшей их, называя остяками, в своих довольно осторожных дневниках. Сенсационность их заключалась не только в том, что как очевидец автор точно описала быт и нравы жителей юрт, в которых побывала сама, но прежде всего в том, что подробно был восстановлен ход восстания ненцев и хантов под руководством мужественного Ваули Пиеттомине. Это был не разбойник, как утверждали власти, а защитник обездоленных единоплеменников. Схватить же его, утверждает Фелинская, удалось только обманом, заманив в западню.
Дневники Фелинская продолжала вести и в Саратове, куда ей разрешили переехать из Сибири (о причине она еще не знала и даже не догадывалась). В них достоверно описано бытие местных татар, башкир, калмыков, их колоритные ярмарки, добыча соли в степных уездах губернии. Впечатляет образный рассказ о неудачной попытке побега ссыльного повстанца Мижигурского, организованного его женой, личностью трагической. Именно это описание легло потом в основу рассказа Льва Толстого «За что?».
Вернувшись из ссылки, Ева Фелинская четырежды напечатала свои дневники в Вильно — сначала в журнале «Атенеум», а потом отдельными книгами. Уроженец Беларуси Кристин Лях Ширма перевел их на английский язык. В Лондоне дневники выдержали три издания, после которых последовал еще датский перевод. Критика назвала это произведение «документом эпохи».
Успех у читателя сибирских и саратовских дневников вселил в Фелинскую уверенность в ее писательских способностях. Одну за другой она пишет повести «Герсилия» (1849), «Пан депутат» (1852), «Племянница и тетка» (1853), потом «Воспоминания», посвященные юности и доведенные до 1821 года. В 1856 — 1860 годах они вышли в пяти томах. Проза Фелинской привлекала читателя (книготорговцы из Вильно и Киева сами торопили присылку рукописей и — о чудо! — платили гонорары, которыми можно было рассчитаться с долгами). Современная белорусская исследовательница Ирина Бурделева считает, что написаны эти книги в немецком стиле бидермайер, переходном между романтизмом и критическим реализмом и отличающемся прежде всего точным описанием повседневной жизни. Нечто подобное, добавлю от себя, оставляя мотивировку для другого случая, наблюдается и у сегодняшних белорусских писательниц в их воспоминаниях.
Писательское мастерство Евы Фелинской проявилось и в ее письмах из ссылки к старшей дочери. Возвышенные рассуждения в них органически сочетаются с точностью деталей. Собственно говоря, на переписке матери и дочери основана повесть Зыгмунта Щенсного Фелинского «Паулина — дочь Евы Фелинской», написанная в ярославской ссылке. Это редчайший случай, когда в наследии святого есть еще и беллетристическое произведение.
Дочь и зять
Высокая духовность и одновременно трагическая предопределенность чувствуются также в биографии Паулины Фелинской, в ее письмах, направленных матери в березовскую и саратовскую ссылки. Ее дочерняя любовь искренняя и страстная. Паулина, несмотря на слабое здоровье, готова повторить подвиг декабристок. Ее единственное желание — приехать к матери, делить с ней будни и редкие праздники. А мать не хочет принять жертву дочери. Ведь поступив так, она может и не вкусить обыкновенной женской радости. Ибо чувства Паулины раздваиваются между матерью и пристойным минским художником Адамом Шемешем.
Для того чтобы дать читателю представление об утонченном стиле родственной переписки, приведу одну цитату. Паулина умоляет мать отменить свой прежний запрет на ее уже реальный приезд: «Не отталкивай меня больше от себя, любимая Мама, сжалься над сиротством ребенка Твоего. Разве хочешь меня приговорить к вечному скитальчеству по чужим домам, где буду для всех грузом и препятствием, тогда как при Тебе еще могу быть счастливой и нужной Тебе дочерью? Если мне и теперь еще не разрешишь приехать, останусь, однако иного счастья искать не буду, ибо оно не существует для меня, пока Ты страдаешь далеко от тех, кто Тебя больше жизни любит».
Доведенная до отчаяния Паулина идет на крайность: узнав, когда и куда приезжает в Киеве император, она тоже устремляется туда, пробивается с письмом сквозь толпу — и в самый решающий момент падает в обморок. Один из офицеров поднимает послание и потом передает его адресату. Автор книги допускает мысль, что это письмо сыграло свою роль в переводе Евы Фелинской из Березова в куда менее суровый Саратов.
Но вот дальнейший ход событий, который трудно объяснить, руководствуясь только логикой. Шемеш дает клятву, что у него не будет другой жены, кроме Паулины. Ева Фелинская начинает в письмах называть Шемеша своим сыном, а он ее — своей матерью. В итоге девушка изменяет свое прежнее решение и венчается с Адамом. Молодожены налаживают свой скромный быт на Бобруйщине. И вдруг власти арестовывают Шемеша за участие в нелегальной деятельности, направляют его в ссылку в Херсон. Несмотря на все запреты, Паулина едет с ним, теперь уже в действительности повторяя подвиг декабристок, неимоверными усилиями добивается замены места ссылки с Херсона на Саратов (может, потому, что Шемеш нарисовал портрет губернатора Пестеля). Перед отъездом в Саратов художник создает икону Матери Божьей для местного костела (ему позировала Паулина). Наконец случается долгожданная встреча дочери и зятя с матерью. А после этого Паулина неожиданно умирает в тяжелых родах. Ева Фелинская прощается в Саратове с дорогой могилой и уезжает в украинский Воютин с маленьким Паулинком на руках. Но душа ее неизменно устремляется на родину — туда, где Голынка, Клецк и Слуцк.
Имя малой родины
Читая книги Фелинских и о Фелинских, я все время ожидал того мгновения, когда наконец они назовут родные места своим именем, выделят их из огромных славянских пространств, на которых десятилетиями разыгрывалась их история. Ну если не Беларусь (тогда ею по традиции были Подвинье и Поднепровье), то хотя бы «тутэйшыя» места, хотя бы историческая Литва — как у Мицкевича и его последователя Дунина–Марцинкевича.
И вот в повести «Паулина» я нашел строки из письма Евы Фелинской, полные неподдельных патриотических чувств. Перед отъездом из Саратова она восклицала в письме к сыну: «Литва, Литва дорогая! Значит, еще раз ты будешь моей отчизной, еще буду блуждать по твоим лесам. В поисках детских воспоминаний, узнавая деревья, которые сажались при мне, а теперь, как и я, постарели, или беседуя у печки, при огне из сосновых дров с каким–либо другом детства, будем оживлять воспоминания молодых лет, которые немножко снимут нашу старость. Мое воображение настолько разыгралось, отправленное путем давнишних воспоминаний, что мечтала я только о Литве, желая скорее преодолеть задерживающие меня здесь преграды».
Но мечтам не дано было сбыться. В Литве, в Белоруссии никто особенно Еву Фелинскую не ждал. Жила она в разоренном Воютине в скромной избушке, рассчитывая только на собственные руки. Денег же хватало на два платья — праздничное и будничное. А весь гонорар за книги шел фактически ее собственным крестьянам, еще более нуждающимся, чем она сама.
Умирала Ева Фелинская спокойно, с чувством исполненного долга. Такой и осталась в памяти детей и многочисленных знакомых, а также читателей, для которых она со временем стала добрым, благородным мифом.