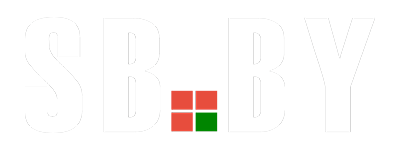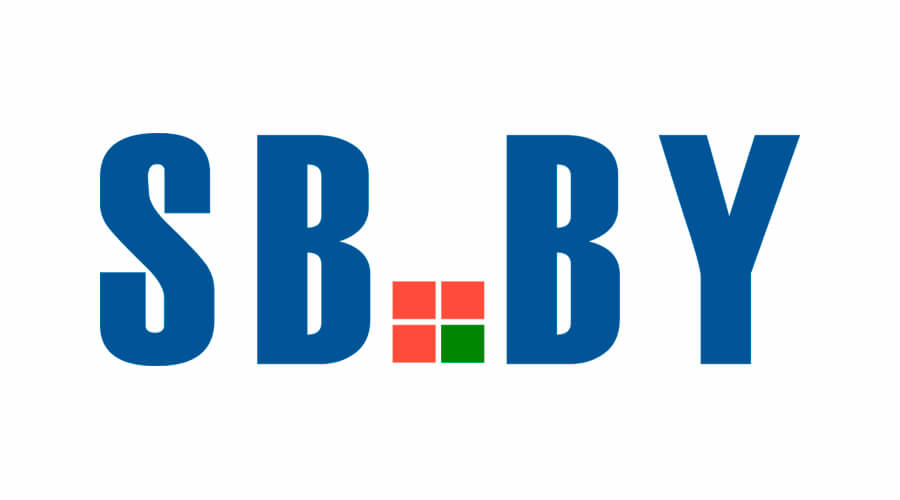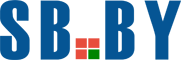Штрих к портрету времен
Штрих к портрету временО редакторах обычно не пишут. О них принято вспоминать недобрым тихим словом. Но мне в жизни повезло - у меня было два замечательных редактора, под чьим непосредственным руководством проходила моя журналистская юность.
Один был в Архангельске, в областной молодежной газете "Северный комсомолец". Звали его Владимир Добкин. Был он за какие-то провинности "сослан" на Север из Москвы, и встретились мы в холодном, промерзшем помещении редакции, в котором он сидел, длинный и тощий, укутавшись в пальто горохового цвета.
Второй тоже был длинный и тощий с сосредоточенным унылым лицом, с вечными рукописями в руках. И один, и другой надевали модные, с иголочки, костюмы и галстуки, когда намечался поход "на ковер" к начальству - для одного в обком комсомола, для другого - в ЦК КПБ. Второго звали Никифор Евдокимович Пашкевич и возглавлял он газету "Лiтаратура i мастацтва".
Я только что вернулся из армии, в журналистском Минске меня никто не знал, поскольку на практику в 60-е я уезжал то в Новосибирск, то в Архангельск, - манила романтика дальних дорог.
Протопал по Ленинскому проспекту, по всем редакциям, повстречался со всеми однокурсниками, которые к тому времени были "при должностях", услыхал от них нечленораздельное "походи, попиши", обиделся - был я не самым последним студентом - и решил применить тактику Атоса, то есть лечь на диван с книжкой и ждать, пока вопрос не решится сам собой.
Звонок раздался на третий день. Звонил Володя Бойко из "ЛiМа", просил зайти.
Никифор Евдокимович долго выспрашивал, что да как, потом мне удалось достаточно удачно ввернуть, что я писал в его газету о том, как плохо готовят журналистов. Было это почти четыре года назад. Главный редактор оторвался от бумаг, поднял на меня глаза, в них заиграла неподдельная заинтересованность, и уже каким-то другим голосом (наверное, так разговаривают с коллегами) он сказал: "Помню. Хорошая была статья. Пишите заявление".
Признаюсь, заявление по-белорусски помог написать все тот же Володя Бойко, мой завотделом, с которым мы проработали вместе 7 лет и крепко подружились.
Я стал "лимовцем". Тогда это была совсем иная газета, не то, что сейчас. Она могла позволить себе фрондировать, иметь свою точку зрения и, хоть и называли ее "лесть и месть", пользовалась уважением.
Во многом лицо газеты определялось личностью главного редактора. Потом, когда я прижился и стал своим в коллективе, понял, на какой риск шел Никифор Евдокимович, формируя штат по своему разумению. Отдел литературы возглавлял бесподобный Григорий Соломонович Березкин. Высокий, важный, совершенно седой, с неизменной сигаретой, зажатой между указательным и большим пальцами правой руки, - он был тончайшим ценителем поэзии, великолепным критиком, за плечами у которого была одна довоенная отсидка, потом славные военные годы - с войны Григорий Соломонович вернулся в офицерских погонах и весь в орденах, - но послевоенный "хапун" отправил славного фронтовика еще на "десятку". Когда Никифор Евдокимович брал его на работу, невзирая на советы "благоразумных" коллег, они заключили некий договор, о котором мы узнали только тогда, когда Пашкевич, покидая "ЛiМ", уволил Березкина. Возмущенные, мы бросились к Григорию Соломоновичу, но он, печально поглядев на нас, сказал: "Мы с Ничипором договорились, когда он меня брал, - перед своим уходом он уволит меня... Без него мне здесь не выжить, сожрут".
Отделом театра заправлял не менее блестящий театральный критик Борис Иванович Бурьян. Отдел театра, кино и музыки был второй по значимости в редакции. И во главе его стоял человек мало того что без специального образования, но, подозреваю, и без окончания десятилетки. Борис Иванович был тяжело ранен на фронте, очень болел, женился рано, ему было не до учебы, пришлось зарабатывать на хлеб... Профессионал экстра-класса, он знал о театре все, был в него влюблен, и его знали в белорусских театрах все. Насчет любили - не уверен, но уважали и побаивались точно!..
Никифор Евдокимович собрал такой коллектив, потому что сам был профессионалом и понимал: анкетные данные дело если не седьмое, то третье...
Пашкевич был редактором, который считал, что, если он ставит под газетой свою подпись, - он отвечает в ней за все, даже за правильно расставленные запятые.
Правда, запятыми и стилем занимался Василь Семуха. Его история тоже уникальна. Вася был мальчиком из сожженной деревни. Его родители и вся семья погибли. После войны он закончил романо-германский факультет МГУ и, пока учился, перевел на белорусский всего "Фауста" Гете, за что был экстерном принят в Союз писателей БССР. "Фауста" издать было трудно. Юный переводчик решил написать письмо Вилли Брандту, канцлеру Западной Германии, в котором рассказал о своей судьбе и попросил Брандта вместо денег за сожженную хату дать денег на издание "Фауста". Письмо до канцлера не дошло. Дошло до КГБ. Из "конторы" его направили писателям, которые немедленно Васю из союза и поперли. Ошеломленный "гений" тихо сидел в боковой комнатушке, читал наши опусы и расставлял запятые.
Когда Василь был невнимателен - мог нарваться на "раздачу". Никифор Евдокимович, четыре раза "завернув" материал с требованием расставить запятые, мог прийти к бившемуся в истерике Василю, поставить какую-то совершенно немыслимую запятую и со словами: "Цi ж я за вас павiнен коскi ставiць..." прошествовать в свой кабинет.
Никифор Евдокимович мог не обращать внимания на многое... Он не замечал, что в редакции постоянно толкутся хорошо "подогретые" актеры, писатели, художники, не замечал бутылок, стоящих на редакционных столах, - у него был один Бог и один закон: материал должен был быть качественным, и сдать его нужно вовремя.
Он сам был недюжинным литературным критиком, награжденным какой-то премией за книгу литературоведческих статей. Как бывшему партизану ему чужда была "дегероизация" - течение в военной литературе, которое проклюнулось после хрущевской "оттепели". Он с "дегероизацией" не соглашался, но предпочитал профессиональный спор с пером в руке редакторскому самодурству и запрету на мнение.
Некоторые его поступки выглядели на первый взгляд самодурством. Отработав год, я собирался в отпуск. Были куплены путевки, билеты на самолет. За три дня до отлета Пашкевич потребовал показать ему "задел". Никакого задела у нас с Володей не было. Жена моя поехала в аэропорт, коллеги вызвали такси, а я сидел у него в кабинете и слушал разнос. За час до рейса главный редактор поглядел на часы, поинтересовался, во сколько у меня самолет, спросил, заказал ли я такси, "поманежил" еще минут пять и отпустил...
Этот урок ответственности я запомнил на всю жизнь, и, право, сегодня, в эпоху всеобщей расхлябанности и необязательности, он не кажется мне самодурством...
Но и "выдавать" своих Пашкевич не умел. Я "открыл" на три дня раньше срока памятник Войску Польскому в Ленино. Открыл на первой полосе, огромными буквами.
Никифор Евдокимович пришел в парадном костюме, вызвал меня, спросил: "Кто тебе давал информацию?" Я что-то пролепетал, что разговаривал с Белопольским - архитектором мемориала, с Цигалем - скульптором, все у них точно узнал и поспешил в Минск, чтобы успеть сделать материал в номер.
Главный поглядел на меня, как на недоумка, и проскрипел: "А с секретарем райкома ты не догадался поговорить?" Я честно признался, что не догадался, думал, что архитектор и скульптор дату открытия знают точно.
Никифор Евдокимович вздохнул и пошел в ЦК "париться". Ни выговора, ни оргвыводов для меня не последовало. Это он, редактор, должен был перепроверить, уточнить, позвонить в райком в конце концов, потом подписать газету. Попыток свалить вину на репортера он не предпринял, был выше этого. Все взял на себя.
Но и уязвить умел. Терпеть не мог дураков. Как-то во время его болезни "достал" меня один академик, автор докторской диссертации о питании партизан. Академику подфартило поехать в Италию. После поездки притащил к нам огромную статью, сплошь нашпигованную сентенциями вроде: "Говорят, в Италии даже безработный имеет автомобиль. Это - правда, но я, как крестьянский сын, помню, когда в хозяйстве подыхала лошадь, продавалось все, чтобы купить новую. Так и итальянский безработный, потеряв работу, в поисках новой много ездит. Вот и покупает авто. Общественный транспорт дорог".
Давать это в газету я не мог, спорить с академиком - тоже. Тянул до выздоровления редактора. Никифор Евдокимович вернулся из больницы, вызвал меня, спросил: "Что там со знаменитой статьей?" Почитал, позвонил академику, сказал, что статья стоит того, чтобы отнести ее в юмористическое издание...
С того конца провода последовала тирада. Отодвинув трубку от уха, Никифор Евдокимович дал мне ее послушать, она кончалась воплем: "Что вы себе позволяете! Меня печатают "Известия Академии наук"..." - на что последовало совершенно хладнокровное
: - Это и есть юмористическое издание, туда и несите...
Только впоследствии я понял, что этой фразой он тоже преподал мне урок, - если уверен, держись до конца, не тушуйся перед авторитетами, ставь на место "давильщиков", зарвавшихся чинуш, уважай свою профессию, требуй к ней уважения от других - она того стоит.
Нет "ЛiМа" моей юности. Изменилась пресса. Бурчать не стану, нравится она мне, не нравится - она такая, какая есть.
А вот хорошие редакторы помнятся...