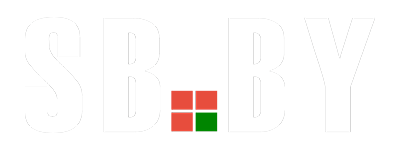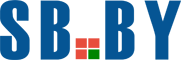Выпускница Петроградского балетного училища, 1923 г.
Выпускница Петроградского балетного училища, 1923 г.
Слабость
Нина Млодзинская была одной из них, самых первых выпускниц «иконы русского балета» Агриппины Вагановой, с которых началось возрождение искусства, на заре советской власти признанного аристократичным, чужеродным, отжившим. Не всем тогда хватило веры и сил, чтобы остаться на родине. Как и другие, будущий Джордж Баланчин, в ту пору еще Георгий Баланчивадзе считал, что талант и редкая красота Млодзинской достойны лучших мировых сцен, труппы Сергея Дягилева, в конце концов. Но, уговаривая ее на зарубежные гастроли, признался во всем далеко не сразу. Только после того, как на одной из репетиций она задала ему прямой вопрос: «Когда мы вернемся?» «Мы не вернемся», — ответил он. «Тогда я не еду, — сказала я. — У меня остается одна мама, я для нее все на свете».
Евгений Комарович бережно хранит кассету с поразительно молодым голосом своей матери, неожиданно согласившейся на интервью для телепередачи Владимира Шелихина. Нина Федоровна не была склонна предаваться воспоминаниям даже в тесном семейном кругу (действительно тесном в пространстве однокомнатной квартиры). Предпочитала жить сегодняшним днем, действовать, а не мечтать. Возможно, именно это ее и спасало всю жизнь, хотя не так ли проявляется истинная сила? Владимир Шелихин часто навещал Нину Федоровну в те годы, когда собаки в значительной степени заменили ей общество людей. Сумасшедшей собачницей Млодзинская не была ни разу, но, когда к ней приводили очередного бездомного пса (в годы перестройки их стало особенно много), оставить его за дверью не могла.
— У нас всегда были собаки, — возражает Евгений Григорьевич, поглаживая блестящую шерсть овчарки, которая живет с ним сейчас. — Даже в Минск мы привезли с собой двух эрделей. Без собак своей жизни мама не мыслила. Рассказывала, что даже свою первую зарплату в Мариинском театре потратила на пса — купила овчарку.
 «Лебединое озеро» на сцене белорусского театра
«Лебединое озеро» на сцене белорусского театра
Театр провожал ее под прекрасные мелодии из балетов, в которых она 10 лет плела кружева танца на нашей сцене. При том, что впервые к белорусской публике вышла в том возрасте, когда балерины обычно прощаются со своими зрителями. Даже Уланова, с которой Млодзинская «в очередь» исполняла общие партии в спектаклях Мариинского театра, танцевала не так долго. Но в историю белорусского балета Нина Млодзинская вошла не только своим танцем. Далеко не в последнюю очередь эту историю она и создавала. Самые яркие звезды нашей балетной сцены были ее воспитанницами. Одно время даже шутили, что ученицами Млодзинской укомплектована вся труппа белорусского театра оперы и балета. Теперь они сами стали педагогами. И могут объективно доказать, что наследство Нины Млодзинской — это не только запись единственного интервью и несколько фотографий необыкновенно красивой женщины с темными глазами.
Тайна
 Первый день в Минске. С сыном и мамой Евгенией Васильевной
Первый день в Минске. С сыном и мамой Евгенией Васильевной
— В Минск мы приехали втроем: мама, я и бабушка, — после этих слов Евгений Комарович нажимает кнопку на старом магнитофоне с кассетой, которая многое объясняет:
— Была у нас одна солистка — уж нет ее на свете давно. Она на меня донесла, наклеветала... Я помню только его имя — Рудольф, граф Зорма. До того надоел своими подношениями, что в конце концов я стала выходить с черного входа в Мариинском театре. Кончился сезон 1938–го, я возвратилась с концерта, поставила себе чай — и тут стук в дверь: обыск. И все, и забрали меня. Шпион же... Осуждена я была «чрезвычайной тройкой» на 5 лет.
Надоедливый поклонник был немецким дипломатом, а по сути — одним из многих, осыпавших Млодзинскую цветами после спектаклей. Вряд ли она запомнила бы его имя, если бы ее обвинители не повторяли его так настойчиво, требуя сознаться в том, чего не было. Но тогда многое складывалось не в ее пользу — и дворянское происхождение, и отец, погибший в 1915–м, известный до революции журналист, примкнувший к царской армии с началом Первой мировой войны... Ее сын появился на свет уже в Свердловске, где Нина Млодзинская оказалась после освобождения. «Ниночка, как я рад, что мы еще можем знать друг о друге, что мы живы», — писал ей туда еще один друг юности, прославленный дирижер Евгений Мравинский. Но создать семью с тем, кого полюбила не как друга, у нее не получилось. В Минске можно было попытаться начать жизнь с чистого листа — ведь ничто и никто не напоминал ей здесь о прошлом.
Уроки
 Однажды Нине Млодзинской принесли раненую енотовидную собаку, которая прожила у нее 10 лет
Однажды Нине Млодзинской принесли раненую енотовидную собаку, которая прожила у нее 10 лет
Годы спустя Млодзинская стала называть Минск своей второй родиной. «Можно с уверенностью сказать: нам повезло, что такая балерина работала на нашей сцене, готовила наших звезд» — отозвались газеты на новость о ее смерти в 1995 году. Однако до самых последних дней быт ее оставался более чем скромным. «Я живу в нищете, потому что никогда не могла отказать себе в удовольствии укусить там, где другие лизали», — комментировала Нина Федоровна несоответствие своих заслуг той стороне жизни, о которой были осведомлены только близкие. Остроумие Млодзинской ученицы сравнивали с репликами Раневской, не отметить этого в своей книге не смогла даже искусствовед Вера Красовская, один из главных критиков в годы расцвета советского балета:
«Балерина Нина Млодзинская была ослепительно красива, а ее холодного ума побаивались сослуживцы. На одном из «балеринских уроков» Агриппина Яковлевна (Ваганова) спросила Млодзинскую:
— Нина, вас лепят?
— Да, Агриппина Яковлевна. Вас тоже?
— Тоже. Но вас, говорят, голой?
— Да, голой. А вас — в шубе?»
Наталья Филиппова, преподаватель Белорусской хореографической гимназии–колледжа, вспоминает, что в некоторые моменты ученицы «боялись ее как огня». И тут же уточняет:
 Еще в Петрограде с одним из своих первых питомцев
Еще в Петрограде с одним из своих первых питомцев
— Не ее убийственных комментариев — боялись, когда она переставала обращать на кого–либо из нас внимание. Нина Федоровна никогда не повышала голоса, вообще, у нее был такой сердобольный, неспортивный прием (если так можно сказать о хореографии): предложить передохнуть, посидеть, подождать, когда заживет. Но если она замечала, что ученица теряет интерес, тут же «выключалась» — этого мы и боялись больше всего. Ей не нужно было проявлять насилия, мы готовы были отдавать ей себя целиком, и она отвечала нам тем же.
Ни один человек из ближнего круга Нины Млодзинской (а в число этих людей входили и ученицы) не слышал от нее в свой адрес ничего, что могло бы ранить даже нечаянно. Она старалась беречь тех, кого любила, — хотя бы словом, если не могла иначе. Беречь, исподволь делясь своей силой и независимостью. И сцена проявляла это в танце Людмилы Бржозовской, Инессы Душкевич, Натальи Филипповой, Ольги Лаппо и других звезд нашего балета. Учениц Нины Млодзинской.
cultura@sb.by