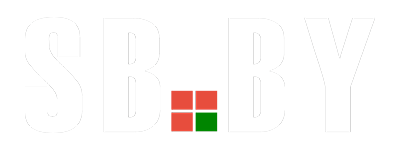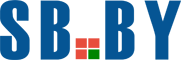Признаюсь сразу: мне бы очень хотелось, чтобы в череде больших и малых мероприятий, посвященных 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, этого не было.
 Иван, Петр, Леонид, Михаил и Ольга Шаврей.
Иван, Петр, Леонид, Михаил и Ольга Шаврей.
Чтобы 26 апреля в РОЧС Наровлянского района не открывали, скорбно и торжественно, мемориальную доску в честь Ивана Шаврея.
Чтобы на здании городской школы № 2 в Наровле не появилась табличка, гласящая, что отныне учебное заведение носит имя Ивана Шаврея.
Вы спросите: почему? Потому, отвечу я, что, если мы видим чей-то барельеф или изображение на памятном знаке, это значит, что в живых его увидеть нам больше не суждено.

И это значит, не стало последнего чернобыльского пожарного-белоруса, который 26 апреля 1986 года спасал и спас наконец мир от ядерного апокалипсиса.
Тридцать пять лет назад командиру второго отделения пожарного караула военизированной пожарной части Чернобыльской АЭС Ивану Шаврею было тридцать. И по логике вещей он должен был остаться навеки тридцатилетним. Потому что первым, плечом к плечу с товарищами, шагнул к пылающему реактору.
«В «мирное» время нам часто говорили: случись что на АЭС, вы, пожарные, будете просто наблюдателями, есть, мол, специальная установка, которая при возникновении нештатной ситуации все зальет водой. На учениях, во время тренировок так все и было, но теперь-то ее разворотило. И это был сущий ад! Сумасшедшая температура, дым, огонь, горящие куски графита под ногами, по которым мы топтались и которые заливали водой.
Мы продержались где-то около часа… Стала вдруг кружиться голова, поплыло все перед глазами. Ребята, а они раздетые, кители сбросили, плохо Васе Игнатенко, вижу, рвет. Я к нему, по щекам похлопал: «Вася, ты как?» — «Ничего, сейчас отплююсь», — хрипит. Ребят Кибенка, Ващука, Игнатенко уже забирают, тут и меня шатнуло — поплыл. Выехали за ворота атомной, и стало нас всех выворачивать. В Припяти в медсанчасти ведут в душ, но мы уже ничего не соображали, прямо в душевых отрубались…»
То, что этот разговор у меня с Иваном Михайловичем состоялся спустя двадцать лет после тех событий, уже чудо. Во-первых, потому что медицина еще не знала случаев, когда человек, схвативший 500 рентген, как это и было с Иваном Шавреем, смог выжить. Во-вторых, потому что никому Иван Михайлович об этом не рассказывал, никогда своим героизмом не козырял, в президиумы не рвался, в наградные списки не щемился. Орден Красной Звезды — единственная его награда. И я на него совершенно случайно вышел. В Наровле беседую с медиками, говорим о рентгенах, дозах, и тут кто-то из собеседников выдает: мол, у страха глаза велики, вон у медсестрички Наташи муж получил 500 рентген — и ничего, жив, здоров, дочке их уже четыре годика. Вот так и получилось, что я был (чем горжусь) первым журналистом, который о нем рассказал на всю страну. «Иван Шаврей, который спас мир» — так называлась моя статья, опубликованная в большой республиканской газете в 2006 году. Через двадцать лет после того, как…
И вот еще факт, тогда меня поразивший: вместе с Иваном плечо к плечу противостояли ядерной стихии его братья Петр и Леонид, которые, получив 600 и 300 рентген каждый, тоже остались живы.
До истоков этой феноменальной живучести докапывался четыре года спустя в Белой Сороке. Это деревня на берегу Припяти и практически в прямой видимости от ЧАЭС, где до 1986 года жили Шавреи и куда в 2010-м мы с Иваном Михайловичем приехали по случаю Радуницы. Здесь я и познакомился с его мамой Ольгой Филипповной. Мы стояли с ней на поросшей травой деревенской улочке и смотрели на ее родную хату, которую они с мужем Михаилом Никаноровичем строили по бревнышку, по дощечке и в которой увидели свет шестеро их детей. Три мальчика — Леня, Ваня, Петя и три девочки — Таня, Мария, Лена. Как по заказу. Нас здесь никто не встречает и не может встречать: 4 мая 1986 года хозяйка, прихватив иконы, вышла из нее в последний раз — была, говорит, Пасха, но яйца красного семья попробовать не успела.
 Артем, Ангелина и Наталья ШАВРЕЙ.
Артем, Ангелина и Наталья ШАВРЕЙ. Почему ее детям, схватившим такие запредельные дозы радиации, посчастливилось остаться в живых, Ольга Филипповна, конечно же, не знает. Как не знает таких мудреных слов, как «гены», «сопротивляемость организма», «пункция спинного мозга» и прочее. Зато твердо знает — ее дети никогда и никому в жизни зла не желали, самую тяжелую работу брали на себя:
— У нас в хозяйстве было 3 коровы, 3 теленка, 2 свиноматки, 24 поросенка, кабан, 50 гусей, по 30 индюков и курей. Вот ими и занимались. Петя жал серпом траву по кустам и прятался, чтобы бригадир не видел. Ваня с девчатами драпал картоплю и гряды полол. Леня гатки на Припяти ставил, за рыбу хорошо платили. Зимой шишки собирали, сдавали. Тяжко им было, столько работы, хата, сами ж видели, у нас маленькая, тесная. Другие, может, и лучше где жили, но мои никогда никому не завидовали, со своего мозоля и головы жили.
Штрих, который ярко характеризует плоды такого воспитания: Артем, сын его жены Натальи от первого брака, взял фамилию Шаврей, отчество — Иванович.
Теперь, когда Ивана Михайловича не стало, я вспоминаю его и понимаю, что, вольно или невольно, это он, словно гид, провел меня по истории своей семьи. Благодаря ему в преддверии 30-й годовщины Чернобыля и встретился в Киеве с его братом Петром.
Началась она с грустной ноты на городском кладбище, где лежат под гранитными плитами Леонид и Михаил Никанорович Шавреи.
— Леня схватил 600 рентген, это официально подтверждено медиками. У него было поражено семьдесят процентов костного мозга. С такой дозой и года не живут, а он 26 лет продержался. Профессор Киндзенльский, когда увидел, что Леня совсем плох, объявил по радио и телевидению, что нужен донор для пересадки мозга. Такой человек, спасибо ему, нашелся. Наш брат-пожарный Константин Стрельник. Вот благодаря им Леня и прожил столько.
Потом в квартире Петра Михайловича я вновь встретился с Ольгой Филипповной, которая к сыну переехала, здесь же продирался через неровный, прыгающий почерк Леонида: «Смотрю над атомной станцией грибовидный шар весь черный. Нога у этого гриба была, наверное, метров сто в высоту. Огненно-яркая такая, переливалась всеми цветами радуги… Битум на крыше был настолько расплавлен, что сапоги и пожарные рукава вязли в нем, сама крыша под ногами вся шаталась, как будто висела на тросах… Около семи утра пожар был локализован. Мы спустились вниз, меня что-то начало сильно тошнить, кружилась голова. Попросил у ребят сигарету, закурил, она показалась такой сладкой, как будто была пропитана медом...»
У Петра Михайловича воспоминания о той страшной ночи тоже были очень яркими: «Нужно было срочно разворачивать насосную станцию, подавать воду в рукава. А развалины кругом, не проехать. В одном месте наш ЗиЛ напоролся передним колесом на арматурину. Я этот прут вытащил голыми руками, а он оказался радиоактивным — кожа с рук лохмотьями слезала. Потом меня и накрыло. Ноги ватные, пить хочется страшно. Умру, казалось, если не попью. А воды нет. Я к пожарному шлангу, открыл, глотаю. Она холодная, чистая, вкусная… В больнице мне сказали, что эта радиоактивная водичка выжгла всю слизистую желудка…»
Разговаривая 26 апреля с Натальей Николаевной Шаврей, сочувствуя в постигшем ее горе, я очень боялся спросить об Ольге Филипповне, которой сегодня уже за девяносто, и с большим облегчением выдохнул, узнав, что хоть и слабенькая, но жива, смотрит за ней дочка.
 Мемориальная доска в честь И. М. Шаврея открыта в Наровлянском РОЧС.
Мемориальная доска в честь И. М. Шаврея открыта в Наровлянском РОЧС.
Набираю (опять же боясь, чтобы не было поздно) номер в Березино, спрашиваю, как там Татьяна Петровна Игнатенко, мама Василия Игнатенко. Жива, говорят мне, «годы уже большие, но жива».
Не знаю, знакомы ли эти женщины между собой, но общее у них одно. Обе вырастили таких сыновей, которые не задумываясь шагнули в ядерное пекло и заслонили собой матерей. И своих, и чужих. И всех нас, белорусов.
kuchko@sb.by
Фото Виктора ПАВЛОВА
P.S. На мой вопрос, что же стало причиной смерти Ивана Михайловича, Наталья Николаевна ответила коротко и с горечью: «Коронавирус…»