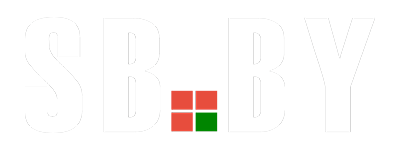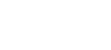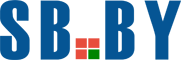К воспоминаниям об этом дне журналисты обращаются едва ли не четко по графику — каждые пять лет, в канун юбилея. Между тем далеко не все детали истории освобождения до сих пор раскрыты и опубликованы. Да, мы побывали в Шумилинском историко-краеведческом музее, а также отдали долг памяти погребенным на Аллее Героев в центре поселка. Заглянули и в менее известный музей в Никитихинской средней школе имени Героя Советского Союза Николая Лоскунова. Этот материал — о подвигах героев «Багратиона».

Первый удар
В начале нашей встречи главный хранитель фондов Шумилинского историко-краеведческого музея Татьяна Церах напоминает, к каким последствиям привела фашистская оккупация. По последним данным, 164 деревни в районе сожжены, 50 из них не восстановлены. Восемь — уничтожены вместе с жителями и навсегда вошли в длинный список деревень-могил в мемориальном комплексе «Хатынь».— Немцы считали, что жители севера Белоруссии ближе к арийской расе, поэтому на них и проводили медицинские эксперименты, — поясняет Татьяна Васильевна и указывает на письмо узницы Освенцима Зинаиды Лишаковой, уроженки Шумилино, сыну Йозефа Менгеле, размещенное в экспозиции. Имя врача-изверга стало нарицательным: он проводил жуткие эксперименты над невольниками.
«Все делал очень быстро. Не дожидаясь смерти «подопечных», он живьем анатомировал их, стараясь как можно скорее определить причину постигшей его неудачи. Боже, как кричали эти люди! Я видела палаты с горбунами и близнецами, над которыми ваш отец производил чудовищные опыты... Да, я живу. Но у меня нет семьи, нет детей, и кожа моя осталась такой же, какой сделал ее палач Освенцима Йозеф Менгеле. Если вы прочтете это письмо, то вспомните: рассказанная выше история — лишь одна из 400 тысяч историй о загубленных и искалеченных жизнях, ответственность за которые несет ваш отец. Несет и всегда будет нести».
— Предполагаю, что имели большое значение железная дорога, пути сообщения. Была информация, что между Витебском и Шумилино даже курсировал немецкий бронепоезд, — отвечает Татьяна Церах. —
Только за освобождение нашего района звание Героя Советского Союза получили 106 человек, 13 из них покоятся на территории Шумилинщины. Всего же в воинских захоронениях более 12 300 солдат. Это очень высокая цена за наше освобождение.

Путь к небу
 Игорь Павлович Посохов.
Игорь Павлович Посохов.
Место упокоения одного из героев, Игоря Павловича Посохова, далеко не сразу найдено. Год назад в Никитихинской СШ обновили экспозицию музея, и первым делом юные экскурсоводы рассказывают его историю. Среди них и одиннадцатиклассница Дарья Борисевич, которая посвятила нас в детали подвига этого советского летчика — уроженца Молдавии, выросшего в России.
Но вначале — о его мирной жизни и пути к небу. С 18 лет, а это было в 1933-м, парень работал на металлообрабатывающем заводе «Пролетарская свобода» токарем. Однако всегда хотел летать и добился того, что по комсомольской путевке его приняли в аэроклуб. Через два года окончил летную школу, а затем и парашютную в Москве. Вернулся в родной аэроклуб инструктором и до самого начала войны учил мальчиков самолетному и парашютному спорту.
— На счету Игоря Посохова 170 прыжков, довольно много, — рассказывает учитель истории, руководитель школьного историко-краеведческого музея Наталья Головачева. — Молодого спортсмена любили в аэроклубе за то, что хорошо играл на гитаре и в шахматы.
В 1936 году Игорь Посохов познакомился с будущей женой Валентиной, которая работала кассиром на вокзале. В 1937-м они расписались, 12 мая 1939 года у пары родилась дочь Эльвира.
Ее воспоминания приводит в научной работе выпускник Никитихинской СШ Александр Исаев (на то время девочке было четыре года):
«Самый трогательный случай произошел однажды на прогулке. Встретив старых товарищей, отец заболтался с ними и не заметил, как девочка куда-то исчезла. Чуть позже перепуганный папа обнаружил ее рядом с группой цыганок, торгующих всякой всячиной.
— Я стояла и завороженно смотрела, как цыганки поигрывают мячиками на резинках, — рассказывает Эльвира Игоревна. — Я мечтала о таком же.
Посохов купил своей Элечке десять мячиков — по одному на каждый пальчик. Она тут же надела их все и шла домой, с радостным удивлением взирая на свои растопыренные пальцы, совершенно очарованная от свалившегося на нее счастья.
На следующий день он вновь уехал на фронт».
Со стажировки в бой
Игорь Павлович долгое время тренировал молодых летчиков в Ярославской авиационной школе. Он неоднократно подавал рапорты с просьбой определить его на фронт, в авиационную часть, но всегда получал отказ. В 1942 году его отправили в Москву за назначением, затем в Ижевск, в воинскую часть для обучения пилотов летать на Ил-2. Постоянно посылали на фронт обучать правилам ведения боевых вылетов. Наконец его рапорт был одобрен. С 20 ноября 1943-го лейтенант Посохов попадает на 1-й Прибалтийский фронт.
 Ученица 11-го класса Дарья Борисевич рассказывает о подвиге героя.
Ученица 11-го класса Дарья Борисевич рассказывает о подвиге героя.
«Игорь Посохов прибыл к нам в часть на стажировку. Он был инструктором, готовил летчиков для фронта. Как правило, таких ребят в боевой обстановке приходилось многому учить. А здесь с первых вылетов мы почувствовали, что встретились с большим, уже сложившимся мастером штурмовых ударов. После каждого его вылета в тылу врага оставались раздробленные железнодорожные узлы, эшелоны с войсками, танками… И вот, понимаете, приехал человек учиться, а сразу оказался достойным боевой награды».
Из воспоминаний генерал-лейтенанта Сергея Сергеевича Александрова
«Настроение отличное. Бью фашистов. Скоро вернусь к вам, мои родные» — так писал лейтенант Посохов в одном из писем жене и дочери.В начале 1944 года становится летчиком 335-й штурмовой авиадивизии. Его боевой путь начался с должности заместителя командира 826-й авиаэскадрильи 1-го Прибалтийского фронта.
«Бывают люди, в характере которых привлекает одна какая-нибудь черта. А в этом человеке было, кажется, все — и огромное обаяние, и простота, и честность. Вокруг Игоря собирались товарищи в короткие часы отдыха между вылетами, на него равнялись в бою.
Для летчика-штурмовика особенно важно в совершенстве владеть техникой пилотирования. А Посохов был, как говорят у нас, в этом деле богом. Мне посчастливилось стать его ведомым. И ни разу моему ведущему не изменили ни мужество, ни самообладание».
Из воспоминаний Николая Платонова, друга Игоря Посохова
Последний полет
— Летом 1944 года, перед наступательной операцией Советской армии под кодовым названием «Багратион», наша авиация господствовала в воздухе, наносила удары по вражеским коммуникациям, переднему краю противника, — продолжает рассказ Наталья Головачева. — Эскадрилья и вся авиадивизия, в составе которой воевал Игорь Павлович Посохов, выделялись активными боевыми действиями по освобождению от немецко-фашистских оккупантов Витебска и Витебской области. Летчики 335-й штурмовой авиадивизии, которой присвоено звание Витебской, делали по пять и более вылетов в день. Их задачей стало разбомбить железнодорожный узел, где было много немецкой техники и личного состава.

Из воспоминаний генерал-лейтенанта Сергея Александрова
Жестокие шли бои: в Шумилино к моменту освобождения уцелело всего одно здание железнодорожного вокзала, пояснила нам Татьяна Церах. Даже аппарату райисполкома после войны пришлось поначалу расположится… в землянке.Утром 23 июня 1944 года на штурмовике Ил-2 Игорь Посохов на пару с лейтенантом Николаем Платоновым вылетели в сторону Полоцка. Уже возвращались на базу, когда над железнодорожной станцией Ловша подверглись сильному зенитному обстрелу. Штурмовик загорелся и на огромной скорости упал в болото.
Самые пронзительные воспоминания о последнем вылете оставил Николай Платонов.
«Последний наш полет оказался на редкость сложным. При других обстоятельствах в такую погоду не летают. Но здесь необходимо было помочь наземным войскам, идущим в наступление… Мы вылетели с аэродрома, и уже на высоте нескольких десятков метров он скрылся из вида.
Игорь держал связь по радио с командиром соединения. Слышу, тот говорит: «Посохов, если не можете выйти на цель, вернитесь». Посохов обращается ко мне: «Как дела, Платоныч?» Отвечаю: «Все в порядке».
С помощью рации наведения на цель вышли точно. Один заход, другой, третий… Видим, как взрываются под нами ящики со снарядами, орудия, как разбегается пехота. И в этот момент из облаков прямо на нас вывалилась четверка истребителей «Фокке-Вульф».
И вот последняя команда, которую я услышал от ведущего: «Николай, держись!»
Николай Платонов все-таки посадил изрешеченную пулями и снарядами машину на аэродроме, а вот Игорь Посохов не вернулся. Самолет и тело героя после боя не обнаружили, он числился без вести пропавшим.

Память живет
И все же история эта получила продолжение. 2 сентября 1962-го около деревни Плиговки неподалеку от трассы Витебск — Полоцк экскаваторщик Иванов и его помощник Пименов вели мелиоративные работы на территории совхоза «Ловжанский». В болоте на глубине примерно двух метров ковш наткнулся на что-то металлическое. Оказалось, это обломки самолета.«Когда мы откопали самолет, то увидели за стеклом человека, рука лежала на пульте управления. Наклонена голова, на коленях лежал полетный лист. В кармане был виден партийный билет, пилотка сбоку, кобура, пистолет ТТ.
Начались сумерки, возле нас крутились дети из соседней деревни Плиговки. Мы испугались, что они самовольно разобьют стекло и достанут пистолет. Тогда было решено разбить фонарь. Тело летчика рассыпалось на глазах… Нас поразило то, что сохранилась даже металлическая записная книжка, в которой лежали листочки с записями боевых вылетов Посохова, носовой платочек и иголка с ниткой».
Из воспоминаний Пименова и Иванова
Захоронили останки в братской могиле в агрогородке Никитиха. Увековечено имя Игоря Посохова в названиях улиц. По многолетней традиции в Шумилино уже готовятся к годовщине освобождения. И в этот день обязательно вспомнят своих освободителей, имена которых и сегодня на самом почетном месте.yasko@sb.by