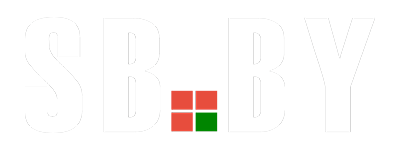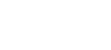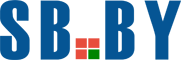Выборы в Европарламент обновили структуру политического рынка ЕС. Но в результатах кроется и существенный экономический маячок. Зеленые получили всего 53 кресла, потеряв 18 мандатов. Хотя на фоне раскручивания экологической повестки еще недавно казалось, что экологи становятся если не превалирующей, то весьма серьезной политической силой. А сейчас намечается несколько иной тренд. Одна история — разочарование европейцев в стратегии декарбонизации. Долго ждать эффекта, слишком дорого, и не всегда меры по спасению планеты логичны, понятны и прозрачны. Эти настроения наблюдались в ЕС с прошлого года. Крайне интересное влияние электоральной кампании на экономические процессы: будет ли Евросоюз продолжать настаивать на энергетическом переходе? Что произойдет с экономикой, все больше затачиваемой на совершенно оригинальные зеленые технологии? Очень много интересных вопросов, ответы на которые будут иметь принципиальное влияние на многие отрасли европейской (и глобальной) экономики и финансовый рынок.

Остро озабоченные будущим планеты и сохранением ее аутентичности активисты появились, наверное, вместе с первыми городами. Собственно, урбанизация и сельское хозяйство оказывали значительное влияние на природные ландшафты еще в самой седой древности. Другой вопрос, что экономическая целесообразность всегда побеждала экологическую составляющую. Справедливости ради надо отметить: нередко индустриализация и изъятие полезных ископаемых производились самым варварским способом.
А природные ресурсы эксплуатировались нещадно. Многие (если не все) европейские реки загрязнены до такой степени, что даже самые смелые разработки ученых пасуют перед задачей хотя бы в первом приближении восстановить их естественный химический состав, чтобы водоемы стали если не чистыми, то хотя бы менее опасными. К концу нашего века худо-бедно удавалось достигнуть приемлемого шаткого компромисса между сохранением окружающей среды и благополучием, иногда самым витиеватым образом формируя бинарную психологию европейского общества потребления и комфорта с заботой о птичках, зверушках, травинках и бабочках. Баланс был весьма условным и лицемерным. Поэтому до самого недавнего времени борцы за сохранение биоразнообразия являлись весьма маргинализированными активистами. Если им сочувствовали, то однозначно не очень широко поддерживали.
Отправной точкой экологической повестки как политического инструмента стал 2018 год. Какой бы харизматичной и яркой ни была Грета Тунберг, но сложно предположить, что шведский подросток (на тот момент 15-летний) мог самостоятельно проникнуть на конференцию ООН по климату и выступить с пламенной речью. Несомненно другое: призывы увлеченной девочки являлись даже очень спланированной акцией. И политической, но в первую очередь экономической. Через зеленую повестку, декарбонизацию и другие экологические инновации планировалось оживить европейскую промышленность, которая с 2010-х испытывала многочисленные системные проблемы и постепенно теряла конкурентоспособность. Знаменитый энергопереход должен был создать глобальный спрос на европейские оборудование и технологии по возобновляемым источникам энергии. Кроме того, под марку бескомпромиссной борьбы с парниковыми газами была попытка создать систему нетарифных барьеров через измерение карбонового следа. Причем методики оценки влияния того или иного производителя на будущее планеты принадлежала бы мудрому перу европейцев.
Да, все понимали, что отказ от ископаемых углеводородов — история очень длинная и очень дорогая. В мировом масштабе счет шел на триллионы долларов инвестиций в год. Но хитрость-то заключалась в том, что эти инвестиции через те или иные механизмы перетекали бы (по крайней мере значительная часть) в страны «золотого миллиарда». На уровне жизни европейцев эти углеродные метаморфозы если должны были сказаться, то только позитивно. Экономика получала новый импульс за счет спроса в рамках зеленой повестки. Плюс традиционные отрасли европейской промышленности — надежную нетарифную защиту от внешней конкуренции. И как бонус — психологический комфорт благополучных европейцев, которые спасают планету.
Экономическая составляющая и навязчивый пиар климатической повестки (сколько исследовательских грандов по этой теме освоено было!) сформировали политическую конъюнктуру. Впрочем, общественная поддержка программ декарбонизации тоже была необходима. Лоббизм — он и в Европе лоббизм. Котировки зеленых партий резко пошли в рост. И экологические политики третьего эшелона если не стали первыми голосами в европейском политическом концерте, то приблизились вплотную к большой сцене. И в 2019 году побили рекорд на выборах в Европарламент. На национальных выборах у зеленых были еще более впечатляющие результаты. Настолько неожиданные, что с ними пришлось вступать в контакт маститым системным партиям. А еще недавно их лидеры с «природниками» и встречаться не стали, а не то чтобы вступать в коалицию.
Но с момента пламенной речи Греты Тунберг очень многое изменилось и в геополитике, и в геоэкономике. Энергетический кризис в ЕС (хотя в его причинах мнения расходятся) очень четко продемонстрировал, что отказ от ископаемого топлива благородная, но очень сомнительная идея с позиции обывателя, рискующего лишиться привычных удобств или платить за них слишком неподъемную цену. Отдельная история — политика декарбонизации в сельском хозяйстве. Плавный дрейф в сторону органического земледелия — прекрасная идея, если бы не продуктовая инфляция. И когда доля расходов на продукты питания в расходах европейцев за последние три года выросла приблизительно в два раза, беспокойство о будущем Земли стало притупляться. Бастующие фермеры создавали немало транспортных неудобств обывателям и приносили терпкий запах деревни в города, вываливая кучи навоза возле государственных зданий. Тем не менее общественное мнение в массе своей оказалось на стороне аграриев. Хотя раньше обычно дело происходило с точностью до наоборот. Да и в целом в ЕС накопилось много самых разнообразных проблем, требующих оперативного решения. Они-то и волнуют в первую очередь все больше и больше населения. Глобальное потепление тоже важная тема, но о ней можно подумать потом. Все-таки до 2050 года, а то и до конца века (климатическая повестка уходит в далекое будущее), еще очень далеко.
Выборы в Европарламент стали фактически первым четко измеряющимся электоральным индикатором настроений европейцев. Они снова ратуют за экологию, но не готовы за нее платить и нести существенные издержки. Остается интригой, как разрешится конфликт между политикой и экономикой.Та же Германия очень активно и достаточно жестко разворачивала и свою экономику, и европейскую под зеленые реалии. Насколько будет болезненным процесс коррекции? Пройдена ли точка невозврата, когда инновационное, чистое и дорогое еще не принесло какого-то ощущаемого эффекта (и принесет ли вообще в новых реалиях — доподлинно неизвестно), а инфраструктура экономики прошлого витка развития уже как минимум частично деформирована. Видимо, перед европейскими руководителями стоит еще одна интересная задача. Удастся ли произвести коррекцию с минимальными социальными и экономическими издержками? Однозначно будет интересно наблюдать.
volchkov@sb.by