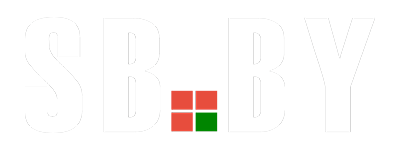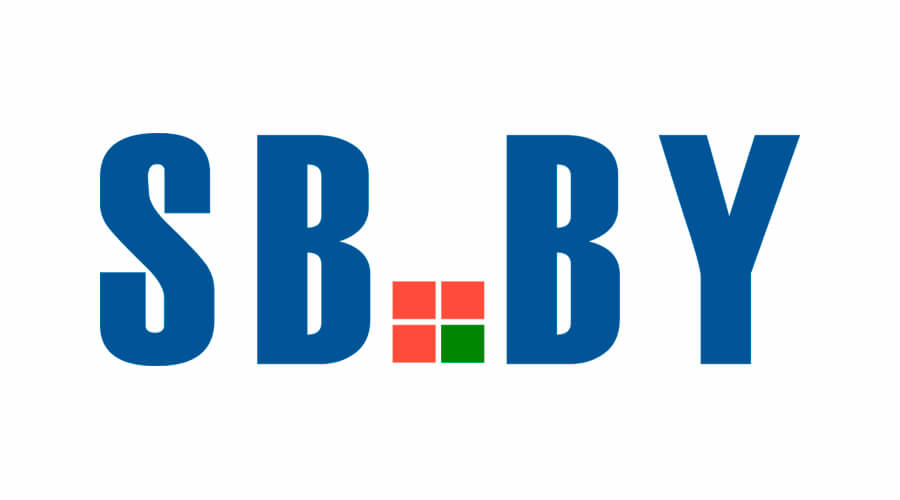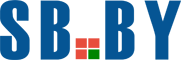В Куропатах – останки жертв и их палачей покоятся вместе. Вот в этой трагедии и прячется ответ на вопрос о сути механизма репрессий 20 – 50-х годов. ...Когда его расстреляли, ему было всего 35 лет. Но нам не приходится гадать о месте этого писателя в литературе, поскольку классиком его признали еще при жизни. «Зарэцкi iдзе!» — слышался шепот в коридорах университета, все умолкали и восторженно наблюдали, как «у канцы калiдора паяўляўся цёмна–шэры капялюш i над усiмi галовамi праплываў у гардэроб».
В Куропатах – останки жертв и их палачей покоятся вместе. Вот в этой трагедии и прячется ответ на вопрос о сути механизма репрессий 20 – 50-х годов. ...Когда его расстреляли, ему было всего 35 лет. Но нам не приходится гадать о месте этого писателя в литературе, поскольку классиком его признали еще при жизни. «Зарэцкi iдзе!» — слышался шепот в коридорах университета, все умолкали и восторженно наблюдали, как «у канцы калiдора паяўляўся цёмна–шэры капялюш i над усiмi галовамi праплываў у гардэроб».А ведь обладатель шляпы был таким же студентом, как и его поклонники.
Его творческое наследие — романы, повести, рассказы, публицистические статьи — вскормит еще не одно поколение литературоведов и даст материал не одному поколению режиссеров. А трагическая судьба, мучительные поиски истины, душевные метания и немалое мужество могут быть материалом для романа...
Гимнастерка и шляпа
Когда писатель Ян Скрыган впервые увидел Михася Зарецкого — а было это в конце ноября 1925 года на первом съезде литературного объединения «Маладняк», — то описал его как «самого военного изо всех военных»: «Падкрэслена элегантны, акуратны, пачынаючы ад абмотак i канчаючы тугiм рамянём i яркiмi нашыўкамi на пятлiцах гiмнасцёркi, — быў парадны, як адшлiфаваны». И вместе с тем в облике Зарецкого поражало и иное: некая раздвоенность. Несоответствие внешнего вида и внутреннего состояния, манера держаться и свободно, и вместе с тем скованно. Эта же неоднозначность была в его облике и тогда, когда стал одеваться «чыста па–еўрапейску: самае моднае элегантнае пальто, блiшчастыя пальчаткi i капялюш». Ян Скрыган объясняет это удивительной судьбой: «Гадаванец духоўнай семiнарыi — i чырвонаармеец, сын дзяка — i камунiст, спявак тонкiх пакут кахання, душэўнага разладу — i камiсар».
Действительно, Михась Зарецкий, или по–настоящему Михаил Косенков, выходец из духовного сословия — его отец, деревенский дьяк, был человеком с характером, музыкально одаренным. И для сына готовил тоже духовное поприще. В 10 лет тот поступил в Оршанское духовное училище, потом два года учился в Могилевской духовной семинарии.
Революция изменила все — и всех. Михась Зарецкий всей душой принял новые идеи... Но и то духовное воспитание сформировало его характер — и придало особую психологическую глубину творениям, и определило его рискованные поступки. Не было покоя в его сердце и искусственной прямоты в судьбах его героев, потому что никому еще не удавалось примирить общечеловеческие и тоталитарные ценности. «Вам парадак трэба, а не жыццё... Ваш парадак не вечны... Я — асоба! Я — чалавек! Разумееш? Якi вам клопат да мяне! Хто даў вам права цiснуць мяне ў цесны мундзiр, калi я ў сарочку хачу... голы хачу хадзiць... га?» — провозглашал герой романа «Сцежкi–дарожкi». Герой отрицательный... Но вместе с тем, как определили бдительные критики, ему была «передана трибуна»: именно Зарецкому была приписана опасная честь изобретения приема «перададзенай трыбуны», то есть когда в произведении советского писателя получает голос враг.
Злостный подписант
Еще будучи студентом университета, Зарецкий совершает первый серьезный проступок перед властью: он стал одним из инициаторов «кiнодыскусii», когда вместе с Язепом Дылой и Змитером Жилуновичем поднял проблему «белорусизации» кино. Потом — как бы в продолжение темы — были «тэатральная дыскусiя» и «лiст сямёх», среди авторов — снова Зарецкий. Предлагалось обсудить пути развития белорусского театра, засилие «общереволюционных» переводных пьес в ущерб национальному репертуару...
«Лiст сямёх» был расценен как вражеская вылазка.
А потом был «Лiст трох» — в письме студенты возмущались порядками в университете, в частности, шельмованием писателей, которое там допускалось. И опять среди авторов — Михась Зарецкий.
Заклеймение произошло на самом вы
соком уровне... Авторов «Лiста трох» — Михася Зарецкого, Андрея Александровича и Алеся Дудара — заставили публично каяться... Зарецкий вынужден был уйти из университета.
Нет, не вписывался он в благостные рамки. Даже сам предложил идею «активного романтизма», или «эмоционального романтизма». Во время поездки для выступлений в Гомель создал группу «гомельскiх рамантыкаў», куда «завербовал» Максима Лужанина, Тодара Кляшторного, Алеся Звонака и Миколу Хведоровича... Правда, новообразование оказалось эфемерным: стоило молодым писателям вернуться в Минск, с каждым из них провели разъяснительную работу и запретили заниматься подобными «диверсиями».
Но в это время Михась Зарецкий пишет рассказ «Максiмалiст», в котором изображает современное ему партийное руководство под видом... пионерского отряда. Во всяком случае, в «самом важном в отряде» пионере Вовочке Пенкине опознавали... первого секретаря ЦК КП(б) Белоруссии Вильгельма Кнорина. «Вовачка нават умее рабiць на сваiм белазорым твары асаблiвую нейкую спагадлiва–насцярожаную ўсмешку, якраз такую, якую ён бачыў у аднаго з важных палiтычных правадыроў». Кроме того, Зарецкий высказывает устами героя романа «Крывiчы» крамольную мысль, что проводимая «белорусизация» не более чем «палiтыка гандляроў з рынку, якiя... звяртаюцца заўсёды да сялян у роднай iхняй мове, каб... лягчэй абдурыць iх...»
Только не надо производить Михася Зарецкого в идейных антисоветчиков. Он, как и его друзья, верил, что речь идет о перегибах, о чьей–то злой воле — не об идее или системе вообще. Перерабатывает свои произведения по требованию цензоров, перераспределяет оценки... В рассказе «Максiмалiст» появляется новый персонаж — некий справедливый товарищ «сверху», который разрешает конфликт. Даже в личном разговоре с Яном Скрыганом, младшим своим коллегой, Зарецкий кается: «Мяне многа крытыкавалi, i часта гэта было правiльна, нiчога не скажаш. Мая бяда ў тым, што я паказваю iнтэлiгентаў, якiм прыйшлося самiм разбiрацца ў рэвалюцыi i або ад яе гiнуць, або прыйсцi да прызнання яе... Але ж я мастак i не маю права выбiраць, што выгадна цi нявыгадна, не зважаючы на гiстарычную праўду. Нарэшце, трагiчнае заўсёды давала найлепшыя i самыя велiчныя ўзоры мастацтва... Можна прыгадаць хаця б Шэкспiра, Пушкiна, Талстога...»
Нетрудно понять, что в контексте времени заставляло подобным образом «откровенничать». То же самое, что заставило Зарецкого, критически относившегося к коллективизации, позже стать ее воспевателем. Не зря во всем своем творчестве Зарецкий показывает, как в столь специфических условиях несвободы трансформируется личность.
Каренина по–белорусски
Очень любопытно в этом плане вспомнить рассказ, который, кстати, иногда приводится как пример «правоверной» революционной прозы, — «Кветка пажоўклая».
Вспомним сюжет, очень, кстати говоря, напоминающий известное сочинение Алексея Толстого, которого также мучили вопросы «психологии», связанной с гражданской войной... Итак, партийный деятель Буланович встречает привлекательную женщину Марину Гарнову, бывшую чекистку, от которой еще недавно дрожал весь город. Сегодня она работает в детском саду и переживает жуткую депрессию. Завязывается роман, выясняется, что в тоску революционную даму вогнало ее прошлое: она отправила на расстрел собственного брата, отец проклял ее. Постепенно партиец начинает тяготиться сплином подруги. Боится, что и сам «раскиселится»... Но вроде и помочь товарищу надо, вдруг еще пользу революции принесет? Ко всеобщему облегчению Гарнова разрешает проблему, бросившись под поезд.
Мораль: кто не смог избавиться от «гнiлых карэнняў», сам виноват. Старое отброшено, проклинаемо и непринимаемо. Причем нужно учитывать, что для Зарецкого, бывшего семинариста, самоубийство не могло не восприниматься куда более страшно, чем для иных. Герои рассказа и жалеют «кветку пажоўклую», и досадливо осуждают ее за нереволюционный «разлом душэўны»... Но вместе с тем остается невысказанное понимание того, что этот разлом правомерен, что Гарнова действительно заслужила наказание, погубила себя... Не зря товарищи, пребывающие в «творчай радаснай сумятнi», боятся Гарнову, словно заразную больную, боятся заглянуть в то душевное «бяздонне», которое перед ней открылось... Из–за инстинктивного понимания: нельзя совершать поступки, подобные тем, что совершила Гарнова, безнаказанно. Только не задумываясь, не копаясь в собственной душе, забывая прошлое в искусственно создаваемой суете, можно жить дальше... Иначе «зацягне, завалачэ ў багну бязволля... сам тады прападзеш...»
Где выход? Повесть «Сцежкi–дарожкi», в которой рассказывается о такой же «пажоўклай кветцы» Лидочке и ее альтернативе — Нине, заканчивается фразой: «А Нiна вучыла палiтэканомiю»... Они, молодые, искали ответ в политэкономии, философии. Жизнь оказалась шире книжных представлений...
Могила неизвестна
Увы, не спасала политэкономия ни от душевной боли, ни от вихря надвигающихся репрессий. Вот названия критических статей на произведения Зарецкого конца 1920–х годов: «Вораг у доме», «Новыя «откровения» Зарэцкага», «Супраць буржуазнай рэакцыi ў мастацкай лiтаратуры».
В 1935 году критики уже вовсю клеймят Зарецкого: «Яго асноўным улюбёным вобразам быў вобраз рамантычнага «шукальнiка хараства» — хараства, процiпастаўленага савецкiм будням. Гэта «хараство» аўтар шукаў у анархiствуючых iнтэлiгентах, у эратычных сiтуацыях, у нацдэмаўскiх iдэалах хутарызацыi».
3 ноября 1936 года. Выдержка из ордера на арест N 703.
«Начальник 3–го отдела НКВД БССР Шлифенсон нашел, что лит. работники Моряков В.Д., Зарецкий М.Е., Вольный–Ажгирей А.И., Барановых С.Я. являются активными участниками контрнацдем. организации, а посему постановил: арестовать этих литературных работников».
Михася Зарецкого расстреляли ночью 29 октября 1937 года.
В ноябре этого года Михасю Зарецкому исполнилось бы 105 лет.
Но, к сожалению, мы не можем принести цветы на его могилу. Поскольку местонахождение ее, как и могил десятков других талантов, загубленных в ту страшную ночь, неизвестно. Старшего лейтенанта ГБ Шлифенсона, кстати, расстреляли «исполнители» НКВД в такую же октябрьскую ночь 1938 года... Возможно, их останки лежат в одной яме...