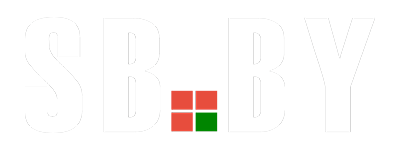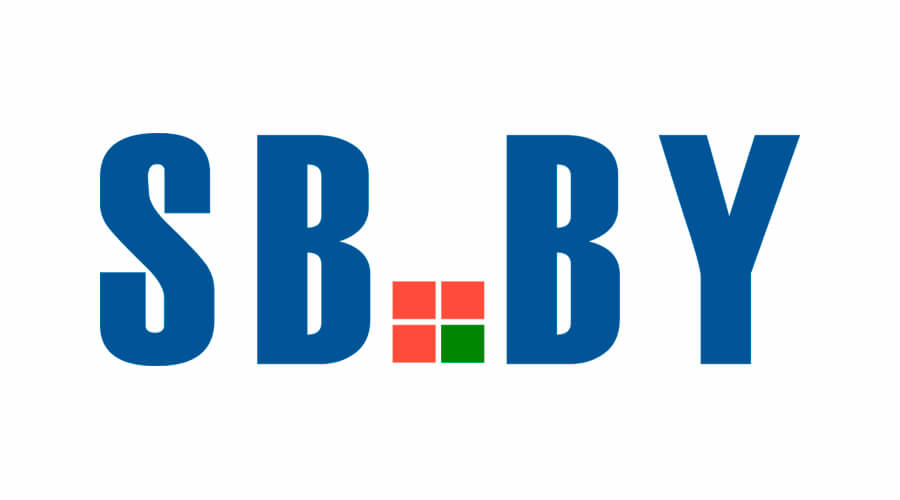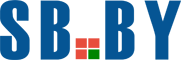Справка «СБ»
Справка «СБ»
Максим Климкович — прозаик, драматург, сценарист. Родился в 1958 г. в Минске в семье литераторов. В 1980 году окончил Белорусский политехнический институт. Работал в журнале «Бярозка», в ТО «Телефильм» Белтелерадиокомпании. Автор детективов «Сцэнарый смерцi» (1991), «Каханка д’ябла» (в соавт. с Мирославом Шайбаком, 1992), сборника повестей и рассказов «Мяжа па даляглядзе» (1994), романов «Цень анёла» и «Тэолаг» (в соавт. с В.Степаном), «Праўдзiвая гiсторыя Кацапа, Хахла i Бульбаша» (в соавт. с В.Ахроменко). Пьесы М.Климковича поставлены на сценах белорусских театров, по его сценариям сняты фильмы и сериалы.
Столичный Михайловский сквер. Дождь моросит сквозь металлический каркас зонтика на скульптуру — капли бегут, стекают по бронзовому лицу девчонки–подростка.
В начале прошлого века мой прадед Язеп Герман перебрался из Либавы в Минск. Был он железнодорожным рабочим. Денег не хватило, чтобы купить жилье в самом городе, приобрел дом в пригороде — Сенице. Тут и родилась моя бабушка Мария точно в день «Кровавого воскресенья» 1905 года.
Местный священник, учивший детей в приходской школе, убеждал прадеда, что моя бабушка Мария — способная девочка и должна учиться дальше. Даже денег для этого не требовалось. В гимназии имелось несколько гарантированных государством мест для одаренных детей. Чтобы поступить, как бы сказали сегодня «на бюджет», достаточно было успешно сдать экзамены. Ну и, конечно, иметь написанное священником ходатайство.
 Прадед упрямился, мол, дочери учиться не надо — читать–писать–считать умеет, и достаточно. Ну действительно, какая польза от образованной женщины? Кто тогда коров доить будет, огород полоть? Но священник попался упрямый, ходил изо дня в день. Наконец прадед сдался. Но чтобы от хождения за семь километров в Минск была польза, его Маруся каждое утро тащила в город бидон молока, продавала его на Суражском рынке и потом шла в гимназию. А там строго следили за языковым режимом. По–русски, по–немецки, по–французски, на латыни или древнегреческом, пожалуйста, говори, пока язык не заболит. За каждое же оброненное, пусть и на перерыве, белорусское или польское слово налагали денежный штраф. Не заплатишь — отчислят. И платила мая бабушка из денег за проданное молоко. А потом боялась возвращаться домой. Ходила тогда до самого вечера по Суражскому рынку. Он был там, где теперь Михайловский сквер с бронзовой девочкой под зонтиком. Даже в дождь ходила.
Прадед упрямился, мол, дочери учиться не надо — читать–писать–считать умеет, и достаточно. Ну действительно, какая польза от образованной женщины? Кто тогда коров доить будет, огород полоть? Но священник попался упрямый, ходил изо дня в день. Наконец прадед сдался. Но чтобы от хождения за семь километров в Минск была польза, его Маруся каждое утро тащила в город бидон молока, продавала его на Суражском рынке и потом шла в гимназию. А там строго следили за языковым режимом. По–русски, по–немецки, по–французски, на латыни или древнегреческом, пожалуйста, говори, пока язык не заболит. За каждое же оброненное, пусть и на перерыве, белорусское или польское слово налагали денежный штраф. Не заплатишь — отчислят. И платила мая бабушка из денег за проданное молоко. А потом боялась возвращаться домой. Ходила тогда до самого вечера по Суражскому рынку. Он был там, где теперь Михайловский сквер с бронзовой девочкой под зонтиком. Даже в дождь ходила.
В том самом здании гимназии после революции уже три школы располагалось. На третьем этаже — еврейская, на втором — польская, на первом — белорусская. Там моя бабушка уже сама завучем работала, преподавала историю.
Печатать на машинке я научился раньше, чем писать от руки, просто начал складывать буквы в слова. Мне нравилось, как старый Continental, на котором мой дед написал текст гимна БССР, звонко стучит клавишами.
Мой дед — Михась Климкович — был в тридцатые годы председателем Союза писателей, ну и членом ЦК партии соответственно. Здание союза располагалось на Советской улице, поблизости от того места, где теперь почтамт. В цоколе буфет с пивом для творческой интеллигенции. Над ним редакции литературной газеты и журнала. А на самом верху актовый зал, приемная и кабинеты руководства союза. Писатели — народ требовательный, ранимый и настойчивый, особенно если после буфета. Посетители к деду — один за одним.
Стал появляться в Союзе писателей и молодой поэт N, чье творчество к дальнейшему прямого отношения не имеет, поэтому его настоящую фамилию называть не стану. Почему–то он решил, что зарабатывать на жизнь, как другие студенты — начинающие литераторы, дворником или разгрузкой вагонов ему не пристало. Ходил по редакциям, и нигде его на серьезную службу не принимали.
 И вот однажды N вошел в кабинет к моему деду, достал длинный нож и заявил, что если Михась Климкович не возьмет его на работу, то прямо тут его, председателя Союза писателей, и зарежет. Дед телефонный справочник полистал, нужный номер нашел, пообещал N вопрос решить и вышел на секундочку в приемную к аппарату.
И вот однажды N вошел в кабинет к моему деду, достал длинный нож и заявил, что если Михась Климкович не возьмет его на работу, то прямо тут его, председателя Союза писателей, и зарежет. Дед телефонный справочник полистал, нужный номер нашел, пообещал N вопрос решить и вышел на секундочку в приемную к аппарату.
Минут через десять приехала не милиция, не «черный ворон» НКВД, а вызванная дедом карета скорой помощи. Дюжие санитары вмиг скрутили молодого поэта и завезли в «дурку». Через полгода он снова в Минске объявился. Ходил по редакциям заросший, с клочной бородой, стихи носил. А когда его спрашивали, почему не побреется, отвечал шепотом. Мол, точно знает, Михась Климкович всем минским парикмахерам приказ отдал. Как только N в кресло сядет, его тут же бритвой по горлу и полоснут.
Со справкой из психлечебницы в кармане N благополучно пережил самые страшные годы репрессий. А тогда из всех белорусских литераторов живыми да на свободе чуть больше десятка человек оставалось. Моего деда от ареста спасло лишь то, что, когда его из партии исключить собрались, он в кабинет зашел и бритвой себе горло перерезал. Предусмотрительный заместитель пистолет из сейфа еще до собрания изъять успел. Проголосовать так и не успели. Дело получилось резонансным. По городу слухи поползли, писателей на допросы вызывать стали. «Органы», как ни странно, разобрались, арестовали заместителя председателя, который донос и написал. Медики жизнь моему деду спасли. Когда он из больницы вышел, то на партийном собрании коллеги с него расписку взяли. Мол, он, Михась Климкович, признает, что совершил недостойный коммуниста малодушный поступок (это о попытке самоубийства) и обязуется впредь подобного не повторять.
Вскоре и война началась. Немцы Минск заняли. N как пострадавший от режима без особых проблем устроился работать в редакцию оккупационной газеты. А в 44–м перед самым освобождением успел–таки уехать в Германию. Из Европы после войны перебрался в Канаду, где прожил долгую и, надеюсь, счастливую жизнь. Однако до самой смерти N любил порассуждать о том, каким гадом был мой дед Михась Климкович и как он сломал молодому поэту судьбу. Самое странное, многие ему даже искренне сочувствовали.
Я стою напротив Дома офицеров. Над головами людей проносятся россыпью черных крестов стаи ворон. Птицы возвращаются с городских свалок. Наконец проходит их последняя волна. Вороны усыпают деревья сквера, крыши, карнизы. Их так много, что сами собой затихают разговоры и воздух полнится гортанным «кар–кар!».
И вдруг звучит просветленное: «Смотрите! Ангелы! Наконец и они прилетели». Я смотрю в темное небо. Высоко–высоко над площадью, подсвеченные большим городом, водят ангельский хоровод белые чайки.
 Перед войной мой отец Алесь Махнач был курсантом Минского военного мотострелкового училища. Когда в сентябре 1939–го войска, дислоцированные в Минске, двинулись на запад, то курсантам приказали занять позиции на башнях столичного Дома Красной Армии. Так назывался сегодняшний Дом офицеров.
Перед войной мой отец Алесь Махнач был курсантом Минского военного мотострелкового училища. Когда в сентябре 1939–го войска, дислоцированные в Минске, двинулись на запад, то курсантам приказали занять позиции на башнях столичного Дома Красной Армии. Так назывался сегодняшний Дом офицеров.
Пятнадцати–, шестнадцатилетние парни сидели с крупнокалиберными зенитными пулеметами и напряженно вглядывались в небо, готовые отбить налет польских бомбардировщиков. Но самолеты тогда так и не появились.
Прилетели они позже. И не польские, а с тевтонскими крестами на крыльях. Отец тогда уже три дня как служил в Брестской крепости. Там 21 июня 1941 младший лейтенант Махнач принял под командование свой первый и последний взвод.
Когда осажденные защитники из немецких радиопереговоров узнали, что уже захвачен Минск, то решили идти на прорыв. Отец остался с другими ранеными в крепости. Там его, потерявшего сознание, возле пулемета с расстрелянной лентой и взяли в плен. Последним его концлагерем был Везувий на границе Германии с Голландией. Второй фронт приближался, пленников десятками гнали на уничтожение. Отец уже не мог сам подняться и просил тех, кто уходил: «Ребята, не бросайте, возьмите меня с собой». Не брали. А потом в небе появились британские и американские самолеты. И хотя из них сыпались бомбы, пленники, кто как мог, выбирались на улицу, чтобы приветствовать освободителей с земли.
После войны отец окончил Литинститут, вернулся в Минск, стал писателем. Помню, когда я был совсем маленьким, мать уходила на работу в «Голас Радзiмы», а мы с отцом отправлялись гулять.
Иногда мы ехали троллейбусом–«двойкой» в аэропорт, устраивались на скамейке и смотрели, как садятся, взлетают самолеты. Тогда чуть ли не все райцентры связывали со столицей рейсы бипланов–«кукурузников». Летом по выходным один из таких самолетов даже летал на Заславское водохранилище.
Бывало, мы садились в трамвай и ехали до конечной остановки, к самому лесу. В 60–е по Минску еще ходило несколько старых довоенных трамваев с деревянными лавками, двери в вагонах можно было открывать вручную.
Моя мать поступила на истфак еще в эвакуации, в Москве. А в 1944–м семья вернулась в Минск.
Она удивляла своих однокурсников тем, что в перерывах читала книги, изданные на английском и французском. Мать привезла с собой шикарную беличью шубу. Надеть ее в Минске пришлось всего один раз. Мама села в трамвай, выбралась из переполненного вагона возле своего факультета. Тут и выяснилось, что кто–то во время поездки изрезал ей шубу на спине на тонкие, как лапша, полоски. Зачем? А чтобы не выделялась среди других!
В Минске встретились мои отец и мать. Тут родился я. Меня и мою сестру они назвали в память своего любимого поэта Богдановича: Максим и Вероника.
Максим КЛИМКОВИЧ.