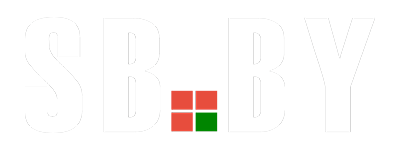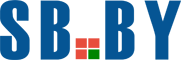— Алексей Львович, вы начали сочинять музыку в детстве. А помните, во сколько лет захотели стать композитором?
— Наверное, лет в семь. У моей мамы, Александры Алексеевны, эта мечта появилась, едва я родился. Она была художницей и зарабатывала на жизнь, расписывая для модниц шарфики с платками и делая шляпки. Работы ее были так хороши, что среди клиенток встречались даже дамы из артистических кругов, и маму иногда приглашали на Новый год в Дом кино. Знаменитые актеры и режиссеры, которых она там видела, выглядели роскошно, но больше всего мамино воображение поражали маститые композиторы, приезжавшие на банкет на черных автомобилях. Их встречали с восторгом, на них смотрели с благоговением! И мама мечтала, что однажды ее Алешенька тоже станет известным композитором, будет получать огромные гонорары и купаться в лучах славы.
Может, она и надеялась бы, что я разбогатею и прославлюсь на ином поприще, но мой отец, Лев Самойлович, был талантливым скрипачом. Причем первым его педагогом был батюшка из православной церкви, который спас его от смерти. В 1916 году, в 14 лет, мой будущий папа заболел туберкулезом, попал в туберкулезный барак — и сбежал оттуда. Решил, что лучше умереть на воле, а не в таком ужасном месте. Он добрался до одного села и попросил помощи в церкви. И его, больного опаснейшей заразной болезнью, да к тому же иноверца, пустили жить в домике при церкви, отгородив занавесочкой от других детей, стали выхаживать — и потихоньку вылечили! Папа выучил православные молитвы и начал петь в церковном хоре. Настоятель того храма умел играть на скрипке и, видя, что Лева необыкновенно музыкален, стал учить его азам. А через два года отправил для дальнейшей поправки здоровья в Крым к своим знакомым, среди которых был и настоящий скрипач.
Папа был первой скрипкой в знаменитом джазовом оркестре Александра Цфасмана, но при этом мы с мамой, папой и бабушкой жили в десятиметровой комнате в коммуналке и спали вчетвером на двух кроватях. В соседней комнате жил пианист. То есть мама видела, что музыканты прозябают точно так же, как и остальные люди, но все равно мечтала, что я попаду на олимп.
Когда мне было шесть лет, она продала буфет, и на его место поставили пианино, а папу обязали со мной заниматься, чтобы подготовить к поступлению в музыкальную школу. Отец злился: «Этот лентяй не делает даже элементарных вещей!» Но несколько простеньких пьес я все-таки выучил — вот только на экзамене меня сыграть не попросили. Оказывается, там надо было напевать мелодии и хлопать в ладоши, повторяя разные ритмы. Я так растерялся, что ничего не смог сделать, и меня не приняли.
Однако мама не собиралась отступать: она наняла преподавателя по сольфеджио. Папа по-прежнему занимался со мной и ругал: «Опять отсебятину несешь!» Действительно, я начинал, как полагается, по нотам, но потом пальцы сами играли незнакомую мелодию — было очень увлекательно. Скоро отец понял, что это не простое перебирание клавиш, а импровизации, и стал их записывать. И вслед за мамой стал думать, что в семье, похоже, правда растет композитор. Или нет? Даже когда меня одновременно приняли в десятилетку Гнесинки и в элитнейшую Центральную музыкальную школу, ЦМШ, папа продолжал сомневаться в том, что из меня может вырасти что-то стоящее.
Сомнения развеял Арам Хачатурян. Папа часто играл в оркестре на записи музыки к кинокартинам, и однажды, когда записывали произведение Арама Ильича, папа набрался смелости и принес ему ноты моего балета «Кот в сапогах». «Скажите, стоит ли мальчику заниматься композицией?» — спросил он у маэстро. И Хачатурян взял меня в свой класс по композиции в Гнесинке! Учась только в ЦМШ, я по шесть часов в день разучивал бы пьесы, а так я три часа тратил на занятия по фортепиано и три — на задания Хачатуряна.

— C Караченцовым не было никаких проблем: Коля серьезно занимался вокалом. А вот для остальных надо было писать так, чтобы никто не заметил, что они петь не умеют
(с создателями «Юноны и Авось» — режиссером Марком Захаровым, поэтом Андреем Вознесенским и исполнителем роли Резанова Николаем Караченцовым)
— Извините за прозаический вопрос: все это в десятиметровой комнате в коммуналке? Мама не пожалела о своей мечте?
— Благодаря моим успехам нам дали отдельную квартиру в новостройке в Серебряном Бору. Мы много лет стояли в очереди, но квартиру все не давали, и тогда папа пошел к Тихону Хренникову, который был руководителем Союза композиторов. Отец принес ему мои ноты, и тот сказал: «Талантливый парнишка, надо ему помочь». Написал ходатайство председателю Моссовета, и в 1957 году нам дали однокомнатную квартиру. Там комната уже была не 10, а 17 м. И кухня пять. Но по сравнению с предыдущим жильем это было роскошью.
— Определенно вы были не только необычайно талантливым, но и удачливым ребенком: все мэтры ваш дар признавали…
— Меня вообще до 21 года по большому счету только хвалили. Сначала мама, папа и бабушка, потом Хачатурян. Нет, он мог и ругать, но всегда поддерживал и верил в меня. Меня хвалили и когда я поступил в консерваторию — за мою Первую сонату для фортепиано, за токкату. И я привык, думал, что всю жизнь хвалить будут. А когда написал Вторую сонату, наши профессора признали ее слишком авангардным произведением и хотели поставить двойку, однако Хачатурян выступил в мою защиту, сказал, что композитор имеет право на эксперимент. Но меня тогда не просто отругали — разгромили, уничтожили. Сделали это просто мастерски, чтобы у человека никогда больше не возникло желания что-нибудь написать. И я свалился с сильнейшей язвой желудка.
Помню, оканчивал консерваторию, нужно было делать дипломную работу, у нас с женой Таней родилась Анечка, а я болел. Хачатурян утешал, говорил, что это «композиторская язва», что его тоже ругали и последствия были такими же. Кстати, это правда. Композиторы — нервные, легкоранимые люди, тяжело переживающие такие удары, и у многих от переживаний открывается язва. Позже меня ругали за концертное каприччио «Скоморох», а в 1969 году те же люди, что его разнесли, дали за него премию. Но я уже был закаленным человеком и отнесся к истории спокойно. К тому же я начал регулярно писать для кино, что давало некоторую стабильность и уверенность в себе.
— Не смотрели на работу в кино свысока? Вы ведь жизнь посвятили классической музыке, а тут всего лишь фильмы…
— Конечно, я пошел туда ради заработка. Но когда начал работать, соединять музыку с драматургией, понял, что это, похоже, будет главным делом моей жизни. Кино стало моей творческой лабораторией. Где еще в те годы молодой композитор мог услышать свою музыку в исполнении оркестра? Тогда же электроники не было, все вживую играли.
Я уже в годы советской власти жил как свободный художник: если у меня есть заказы в кино — значит, семья вкусно ест и красиво одевается, но если нет заказов — есть, пить и тем более одеваться не на что. Я проработал на государственной службе год-полтора, а все остальное время находился в свободном плавании. И это закаляло: я знал, что, если где-то схалтурю или ошибусь, в следующий раз меня не пригласят в кино и жить будет совершенно не на что. Такой расклад мобилизует и заставляет писать все лучше и лучше.
К первым фильмам я писал в основном симфоническую музыку. Перелом наступил в 1970 году, когда меня позвали работать на «Острове сокровищ»: тогда я осваивал новые технологии и увлекался рок-музыкой. Она только начала завоевывать сознание людей, вышел «Иисус Христос — суперзвезда», и мне немедленно захотелось экспериментировать со свежим интересным музыкальным языком. В ту пору мне казалось, что симфоническая музыка зашла в тупик: ушла от слушателя и стала музыкой исключительно для профессионалов. Слушатели — такая важная составляющая творчества! Я представить себе не мог: вот я что-то напишу, а слушать меня в концертный зал придут несколько старушек… Музыку к «Острову сокровищ» я писал в Ялте — там снимался фильм. Причем в то время в Крыму вспыхнула эпидемия холеры, и мне пришлось давать подписку, что я не вернусь из Крыма до окончания карантина, предупрежден об опасности и не буду иметь претензии, если заболею. В самолете со мной летели всего шесть человек.
— Но почему вы не могли написать музыку в Москве, без риска для здоровья?
— Я не был знаком с режиссером Евгением Фридманом, и мне обязательно нужно было встретиться с ним лично и все обсудить. Фридман был настроен крайне скептически. Он хотел создать в фильме английскую атмосферу, музыку предпочитал западную, и ничего из работ советских композиторов ему не нравилось. Все это режиссер сообщил мне, приведя в комнату с расстроенным пианино. Он сказал: «Даю неделю. Посмотрим, что ты сочинишь, и решим, будем ли вместе работать». Я там заперся на несколько дней, чтобы сочинить эскизы. К счастью, они понравились Евгению Владимировичу, и он меня взял.
— Холеры вы тогда совсем не боялись?
— Кажется, нет. В любом случае творческий азарт был намного сильнее.
— А работа на картине «Про Красную Шапочку» была связана с какой-то опасностью?
— Да, нам угрожал провал! «Красную Шапочку» делала та же команда, что и «Приключения Буратино»: сценарист Инна Веткина, режиссер Леонид Нечаев и я. «Буратино» имел феноменальный успех, а когда после суперпопулярного первого фильма снимают второй, он обычно не получается: люди всю энергию выплескивают в первом проекте. Конечно, мы прилагали все усилия, чтобы вторая картина вышла не хуже, но все равно успех «Красной Шапочки» был неожиданностью.
— То есть к оглушительной популярности «Буратино» вы были готовы?
— Об этом говорил поэт Юрий Энтин. Он был знатоком, моментально определявшим, какая песня станет шлягером. Энтин умел сочинять стихи, которые запоминались с лету, работал с композиторами, создававшими хиты. Ему можно было доверять в данном вопросе. Но у нас музыка была более сложной и непривычной для широкой публики. Поэтому я не верил, что подвыпившие люди на улице или в ресторане будут петь песни из «Буратино». И как я ошибался!

Дочка Аня распевала «А-а, крокодилы-бегемоты…» задолго до выхода картин: тогда нельзя было играть беззвучно в наушниках, и я долбил дома на рояле. А Митя присоединился к армии поклонников «Шапочки» и «Буратино» несколько лет спустя (1981)
— Ваши сын с дочерью, наверное, распевали «А-а, крокодилы-бегемоты…» и «Затянуло бурой тиной…»?
— Ну а как же иначе? Только дочка начинала это делать задолго до выхода картин: тогда не было электронной клавиатуры, на которой можно беззвучно играть в наушниках, и я долбил дома на рояле, прерываясь на извинения перед недовольными соседями. Анечка волей-неволей знала все наизусть. А Митя родился в декабре 1976 года и присоединился к армии поклонников «Шапочки» и «Буратино» несколько лет спустя.
— Они оба стали музыкантами?
— Дочка не захотела играть на музыкальных инструментах, и я чувствовал, что это не ее. А с Митей мы с начала 1980-х, можно сказать, вместе работали. Ему было семь-восемь лет, когда я привез из Англии аппаратуру для своей студии. У меня дома появилась своя личная студия звукозаписи, и Митя сразу увлекся электроникой. И сейчас электроника и Интернет дают ему такие возможности, о которых я и мечтать не мог. Сын, сидя в своей студии в городе Троицке, делает большой и интересный проект с американской поэтессой и американскими, канадскими и австралийскими исполнителями, полным ходом идут переговоры с Лас-Вегасом. Митю, тьфу-тьфу-тьфу, там признали. Он много пишет для фильмов и сериалов — в основном эстрадную музыку. Но в марте вышел полнометражный мультфильм «Тайна Сухаревой башни. Чародей равновесия», где у него полноценная симфоническая партитура. Кроме того, он работает на всех моих проектах музыкальным продюсером. Без его ушей, без его контроля я сейчас не выпускаю ни одного диска и ни одной фонограммы.
— Не тяжело работать с сыном?
— Будь у меня хоть малейшее сомнение в том, что он необъективно относится к моей музыке, я никогда бы с ним не работал. А Анюта унаследовала от моей мамы и деда, то есть своих бабушки и прадеда, талант к живописи. Она художник по костюмам в нашей творческой мастерской, делала костюмы для оперы «Литургия оглашенных», работала вторым режиссером на разных картинах. Видите, какая у нас семейственность!
Кстати, о музыке и семейственности. Аня же первой в мире исполнила роль Кончиты — когда мы в 1980-м тайно записывали «Авось!» на фирме «Мелодия». Ее голос идеально подходил к образу. И с тех пор все актрисы, которые играют Кончиту, слушают ее запись — она эталон.
— Как можно было на государственной студии грамзаписи подпольно записать целую рок-оперу?! Ладно бы пару песен под аккомпанемент, например, гитары.
— Понятно было, что принести в 1980 году на худсовет рок-оперу, где звучат православные молитвы, было делом безумным и опасным: под запретом были и рок, и религия. Но редактор фирмы «Мелодия» Евгения Лозинская придумала гениальный ход: «Раз поэма Вознесенского «Авось!» входит в книгу «Витражных дел мастер», которой дали Госпремию СССР, то одобрение худсовета ей не нужно. А музыку можно подать просто как сопровождение поэмы, получившей государственную награду. Худсовету покажем уже готовую запись!» И мы с женой, певцом Геннадием Трофимовым, певицей Жанной Рождественской и звукорежиссером, задобрив вахтера, как партизаны, пробирались на «Мелодию» и нелегально работали по ночам и в выходные. Мы занимались этим целый год, сделали копии на кассетах, планируя распространять их как самиздат. В надежде на то, что «заграница нам поможет», я давал послушать «Авось!» московским корреспондентам ведущих западных газет — но ничего не менялось.
В тоске я ждал неизбежного худсовета, который должен был пройти до конца года. Однажды Танин брат Валя сказал, что сотрудники филиала Музея древнерусской культуры и искусства имени Рублева хотят устроить мою творческую встречу. Филиал находится в помещении церкви Покрова в Филях. Мысль о том, что придется исполнять в храме «Песню Дуремара» или «Песню Красной Шапочки», показалась мне бредовой и кощунственной. И тут я подумал про «Авось!». Мы пригласили всех наших друзей, я позвал иностранных журналистов — для большего резонанса.

С сыном Дмитрием и внуком Степаном
— Но вы понимали, что это гарантирует не только больший резонанс, но и более серьезные проблемы?
— Конечно. У меня же до того момента все складывалось так, как когда-то мечтала мама: я жил в четырехкомнатной квартире на Смоленской, писал музыку к популярным фильмам, моя рок-опера «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» с бешеным успехом шла в «Ленкоме»… Мне удавалось избегать компромиссов в творчестве, но не конфликтовать с властью. Берясь за «Авось!», понимал, что тут балансировать не получится и что я ставлю благополучие — и свое, и своей семьи — под угрозу.
Разумеется, на худсовете «Авось!» зарубили, а мной стала овладевать какая-то апатия. Сил становилось все меньше, даже вставать было тяжело. Сдал анализы, и выяснилось, что у меня желтуха, причем в тяжелейшей форме. Вслед за мной заболели Таня и дети — к счастью, в более легкой форме. Геннадий Хазанов помог нам с больницей: меня положили в Боткинскую на первый этаж, а жену на второй. Таня писала, что ей лучше, но я ей не верил. Мне самому не помогало ни одно лекарство, от капельниц и таблеток становилось только хуже, и вскоре я перестал их принимать. Лежал и думал, чем этот внезапный кошмар может закончиться — для меня, для жены, для детей…
Я похудел на 20 кг и при росте 187 см весил 69 кг. Но однажды проснулся хоть и коричневый, но совершенно счастливый и с воодушевлением сказал доктору: «Сегодня мне намного лучше». Она с ужасом на меня взглянула и убежала за завотделением. Тот удвоил дозу лекарств — и ударная доза тоже была спущена в унитаз. А вечером в окошко палаты постучала жена Геннадия Хазанова Злата — она пришла с каким-то молодым человеком, назвавшимся Леонидом. Тот спросил, какие у меня проблемы с анализами. «Билирубин, — отвечаю. — Он у меня 16 единиц, а в норме должна быть одна единица». — «Через неделю будет единица. Постарайтесь каждый день вечером с семи до восьми лежать, представляя меня». Я лежал, пытаясь вспомнить лицо странного шарлатана, и на четвертый день заметил, что руки и белки глаз посветлели. На пятый сдал анализы — они были почти в норме!
Мы выздоровели, но были очень слабыми, и друг привел к нам в гости своего знакомого врача. Мы ему начали рассказывать про желтуху и экстрасенса Леонида, а он вдруг сказал: «Никакой желтухи не было. Это порча, заговор на смерть». Мы ужаснулись, а он через несколько минут добавил сонным голосом: «Это сделала черноволосая женщина. Вы обманули ее. Что-то пообещали и не выполнили… Нет, не ей, человеку, с которым она живет… Что-то нематериальное. Вы обещали написать музыку». Напоследок он предупредил, что поскольку с меня порчу сняли, она вернется наславшим ее гражданам.
Конечно, наш гость оказался не простым врачом, а сотрудником спецлаборатории КГБ, где изучали паранормальные способности. Через год я увидел в Доме литераторов жену знакомого поэта, хотел поздороваться, но она отвернулась и сделала вид, что не узнала. Общий знакомый сказал: «Да Мишка от желтухи чуть не умер, и она стала какой-то странной». И я все понял! Мы с Мишей хотели сделать рок-оперу, я сочинил основную мелодию, от которой он был в восторге, но тут появился Вознесенский с «Авось!», и я забыл обо всем на свете. А Михаил, видимо, ужасно мучился и ревновал.
Пока я умирал от порчи, похожей на гепатит, история с «Авось!» развивалась самым благоприятным образом. К нам домой зашел Вознесенский, взял кассету с записью и увез во Францию показать Пьеру Кардену — он же не только модельер, но и продюсер. Танин брат делал копии и раздавал друзьям, одну передали и в «Ленком». Геннадий Трофимов, навещая меня, сказал, что Марк Захаров начал ставить спектакль. Нашу запись слушали на худсоветах и редакторских совещаниях, в КГБ и комиссиях ЦК партии. Говорят, ее слушал даже Суслов — и ему понравилось! Из нашей истории решили не раздувать скандал. В стране определенно что-то менялось…
Разумеется, в спектакле подсократили молитвы. Появился демонического вида Главный Сочинитель, который издевался над хором, когда тот пел молитвы, и убивал дирижера. Из погребального шествия сделали дьявольскую круговерть, «Аллилуйя» у меня была пением далеких небесных миров, а у Захарова стала братанием сексуально раскрепощенных хиппи. Но все это были мелочи. Главное, что наш неслыханно смелый спектакль ставили — пусть и сомневаясь, что его разрешат играть. Я ходил на репетиции, и никто в театре, похоже, не знал о моей недавней болезни.

— Вы записывали «Авось!» с профессиональными певцами, а в «Ленкоме» пели драматические актеры — люди других вокальных возможностей.
— Было очень сложно. Только с Николаем Караченцовым не было никаких проблем: Коля музыкально образованный человек, он серьезно занимался вокалом, развил совершенно невероятный диапазон. Я знал об этом с тех пор, как он стал играть Смерть в «Звезде и Смерти Хоакина Мурьеты». А вот для остальных надо было писать так, чтобы никто не заметил, что они петь не умеют. Сначала я выяснял, в каком диапазоне голос каждого актера выгодно звучит, а в каком диапазоне он вообще не звучит. Понимал, что они могут сделать, а что не могут сделать, — и писал только в том диапазоне и только то, что они могут. В остальных случаях спасала палочка-выручалочка — ансамбль «Аракс», в котором были потрясающие певцы. «Аракс» пел в открытую, прямо на сцене — никто никого не дублировал.
Рок-опера гремела, но мое имя лишний раз старались не упоминать и писали на афишах где-то между именами художников по костюмам и осветителей. КГБ призывало сотрудничать. Но к неприятностям в подобном роде я был готов, а вот следующий поворот стал неожиданностью.
7 января 1982 года исполнялось 80 лет моему папе, и среди многочисленных поздравительных телеграмм был вызов на допрос в РОВД. Мы не понимали, в чем его обвиняют. Я растерялся и не знал, куда бежать за помощью, зато отец сохранял спокойствие. Он сказал: «В Гражданскую войну меня много раз допрашивали и белые, и красные. Я знаю, как себя вести в таких случаях». Папа взял очки с сильными диоптриями, в которых писал ноты, и одно стеклышко заклеил пластырем. Накануне на него упала сосулька, и на голове была свежая ссадина — он сделал повязку, через которую проступила кровь. И в таком жалком виде я и повел его на допрос. Чтобы окончательно деморализовать противника, отец притворился, что глуховат. Оказалось, его обвиняют в том, что человек, которому он продал «жигули», в свою очередь перепродал их по спекулятивной цене. Ясно было, что отец ни при чем, но для того, чтобы нас унизить, годился любой предлог. У них с мамой устроили обыск, завели дело. Главные свидетели из Туркмении на суд не явились, а судя по их письменным показаниям, никаких лишних денег от них не получил даже перекупщик. Папино дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Все обошлось. Папа оказался крепким орешком и прожил потом почти десять лет. И в 1991 году, когда Анюта выходила замуж, он весь вечер играл гостям на скрипке.
— Сейчас выстраданную «Юнону и Авось» поставил не только «Ленком», но и Театр Алексея Рыбникова.
— Мы сделали этот спектакль в 2009 году в рекордные сроки — для международного фестиваля Пьера Кардена. Легендарный кутюрье несколько лет назад купил замок Лакост, принадлежавший маркизу де Саду, по его проекту в скале на месте бывшей каменоломни вырубили театр, и Карден проводит там ежегодный театральный и музыкальный фестиваль. Он пригласил туда «Ленком» со своим любимым спектаклем, который привозил во Францию еще в 1983 году. Однако в последний момент выяснилось, что «Ленком» туда не поедет: слишком большая труппа, очень сложно перевозить масштабные декорации… Но Кардену во что бы то ни стало хотелось увидеть на своем фестивале «Юнону и Авось». В репертуаре нашего театра ее не было. Известие мы получили в начале мая, а выступать предстояло в конце июня. И мы рискнули поставить спектакль и привезти Пьеру Кардену в подарок.
Тогда у нас не было ни полноценного помещения для репетиций, ни декораций, ни костюмов: мы делали спектакль с нуля. Поскольку у Кардена предстояло играть на открытом воздухе, то и репетировать мы решили на открытом воздухе, в парке культуры. Поблизости были рестораны, аттракционы, и режиссер Александр Рыхлов и наши актеры работали среди шума и гама. Я в успех этой безумной затеи не верил и даже не ездил к ним, только звонил по телефону, узнавал, как дела идут. Мы выехали во Францию с сырым спектаклем и доделывали его непосредственно на площадке у Кардена.
— Не приложил ли великий модельер руку к костюмам?
— О, они у нас были просто какими-то полуфабрикатами, но Кардену понравились. Перед нами для классической оперы вроде «Риголетто» на середину сцены выкатили ржавую ванну, и мы поняли, что наш аскетизм соответствует духу моды. Карден приходил каждый день на репетиции, и по его лицу было понятно, что он вроде бы доволен. Наступил вечер премьеры. Публика франкоязычная, никаких наших эмигрантов, а мы даже либретто не раздавали! Незнакомая история на незнакомом языке — кроме провала рассчитывать не на что. Но в конце вся эта изысканная публика стоя аплодировала и кричала «Браво!». Только тогда я поверил, что мы сделали что-то достойное.
Осенью 2009-го мы показали спектакль в Москве, потом начали ездить по городам, сделали другие костюмы. Вроде и есть невольная конкуренция с «Ленкомом», а вроде и не пересекаемся мы. У нас разные постановки: в «Ленкоме» поют драматические актеры, а в нашем театре профессиональные вокалисты. Резанова у нас играют Валерий Анохин и Никита Поздняков. Никита и его брат Саша Поздняков много лет у нас работают, Саша еще школьником пришел. Они молодцы, достойно выступили в первом сезоне «Голоса» на Первом канале, в мае ездили с Полиной Гагариной на «Евровидение». Но я перестал заниматься рок-музыкой еще в 1990-е. А в ХХI веке окончательно вернулся к симфонической музыке, написал произведения, которые исполняют замечательные дирижеры — Гергиев, Федосеев, Курентзис, Сладковский, Марк Горенштейн.

— Десять лет назад жена спросила: «Что тебе подарить к 60-летию?» И я ответил: «Путешествие по дельте Ориноко». С тех пор мы побывали во многих экзотических поездках
(на мысе Доброй Надежды, 2006)
— Кстати, если говорить не только о музыке, но и об остальных сферах жизни, — что вам сейчас интересно?
— Путешествия. Десять лет назад жена (в 2002 году Рыбников женился второй раз, его вторую супругу тоже зовут Татьяна. — Прим. «ТН») спросила: «Что тебе подарить к 60-летию?» И я ответил: «Путешествие по дельте Ориноко». Я много читал про острова Тринидад и Тобаго, которые находятся поблизости, от одних этих названий веет романтикой. И Таня заказала тур в Венесуэлу, оказавшуюся весьма непростой для туризма страной. Когда мы добирались через тропический лес к самому высокому в мире водопаду Сальто Анхель, нас ограбили «лесные братья» — увели ноутбук со всеми материалами. Узнав, что мы русские, в местной полиции нам посочувствовали, однако ноут так и не вернули.
Купались в реке, где водились пираньи. Наш проводник, выпив «Куба либре», предложил: «Если у вас нет на теле ранок, можно искупаться». И мы храбро зашли в воды Ориноко. Пираньи на нас не напали, зато мы их потом ловили и жарили — оказалось, неплохая рыбешка. С тех пор мы побывали во многих экзотических поездках, попадали в грозу на крохотном самолетике на пять человек, ночевали в палатке, слыша, как снаружи рычит лев. Правда, утром выяснилось, что это была гиена, но все равно же хищник.
— Как же супруга переносит такие поездки?
— Она окончила геофак МГУ, и дикая природа и походы ей не в диковинку.
— До чего же у вас интересная жизнь!
— Не стану спорить. За последние два года я всю ее пережил заново, когда писал воспоминания. Однажды я получил письмо от заведующего отделом мужских детективов издательства «Эксмо», он предложил написать воспоминания — в любой форме. Но мне понравилась как раз идея с детективом — благо опасных приключений и мистики в моей жизни хватало. Я начал с 1980 года, с истории про «Юнону и Авось», а закончил 1998-м, когда налоговая полиция разгромила Театр Алексея Рыбникова. Дописал воспоминания месяц назад, когда мы были на Шри-Ланке. Я назвал их в честь гостиницы, где закончил книгу, — «Коридор для слонов».
— Тяжело было писать?
— Очень легко. У меня не было помощников с диктофонами, потому что я несколько раз пытался рассказывать что-то биографам и всякий раз приходил в ужас: слова на бумаге совершенно не передавали мои ощущения. А сейчас я просто заново погрузился в прожитые годы. Это оказалось испытанием для психики, но было по-настоящему здорово.
Алексей Рыбников
Родился: 17 июля 1945 года в Москве
Семья: жена — Татьяна Рыбникова-Кадышевская; сын — Дмитрий, композитор; дочь — Анна, художник; внуки, сыновья Анны, — Степан (19 лет), студент ВГИКа, Иван (8 лет), внучки, дочери Дмитрия, — Елизавета (9 лет), Екатерина (4 года)
Образование: окончил Московскую консерваторию им. Чайковского
Карьера: с 1969 по 1975 год преподавал в Московской консерватории. Автор музыки более чем к 100 фильмам, среди которых: «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Усатый нянь», «Тот самый Мюнхгаузен», «Вам и не снилось», «Звезда». Написал рок-оперы «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось», оперу-мистерию «Литургия оглашенных». Автор многих симфонических произведений
Елена ФОМИНА, ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Фото: Юлия Ханина, из личного архива Алексея Рыбникова
Фото: Юлия Ханина, из личного архива Алексея Рыбникова