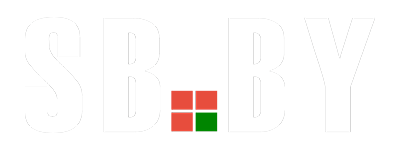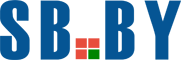Перипетии жизни Винцента Дунина-Марцинкевича (или, как он по-русски называл себя, Викентия Ивановича) не могут не вызвать внезапного чувства узнавания: таким же авантюристом, романтиком и искателем приключений был французский беллетрист Александр Дюма. Так же, как веселый француз, Дунин-Марцинкевич тонул в долгах и поддавался сердечным порывам, ввязывался в истории, обожал театральную мишуру, шутки и мистификации… Даже внешне два писателя были схожи: оба плотные, широколицые, с пухлыми щеками, жизнелюбивые и явно рожденные под одной звездой — или скорее странствующей кометой, ведущей по жизни весельчаков и приключенцев. Они и дышали ветром одной эпохи: ХIХ век — время социальных потрясений, бунтов и гроз и вместе с тем золотой век литературы, когда слово наконец-то обрело настоящий вес, а сочинительство стало постепенно превращаться из салонного развлечения в профессию и призвание.

Родился он 4 февраля 1808 года в фольварке Панюшковичи Бобруйского повета Могилевской губернии, который семья арендовала у свояка — могилевского епископа. Младенец был хилым и слабым — настолько, что даже окрестить маленького Винцента Якуба удалось лишь спустя несколько месяцев, когда дитя чуть окрепло. Всю жизнь носил прозвище Горбатый — сутулился, да так сильно, что с возрастом вечный неправильный изгиб спины действительно превратился в горбик. Вокруг родословной классика исследователи ведут бурные споры: ни в каких архивах и семейных документах придомок «Дунин» не значится — на свет он появился просто Марцинкевичем и годы спустя то ли создал себе новую биографию вместе с авантажной двойной фамилией (в том числе для большего успеха на ниве писательского труда), то ли действительно принадлежал к дворянскому сословию и даже состоял в свойстве с княжеским родом Волконских… Гипотез можно строить много, одно несомненно: Викентий Иванович был образован (сказывалось влияние свойственника-епископа), полиглот — в совершенстве знал белорусский, польский, русский, французский языки, владел словом и в деталях был знаком с нравами бедных шляхтичей, которых от мужиков отличало лишь наличие дешевой сабли, а за плугом они шагали уже наравне.
Именно эти нравы драматург и высмеял в своей самой известной пьесе «Пинская шляхта»: вся фарсово-водевильная история и крутится вокруг того, что один шляхтич назвал другого мужиком, а тот в отместку его побил, и вот уже под угрозой счастье влюбленных отпрысков.О писательском ремесле изначально речи не шло, Винцент видел себя врачом — это сулило стабильный доход и уважение. Однако все решила практика в покойницкой: на вскрытии восприимчивый юноша тихо сполз в обморок, на том с лекарским делом и было покончено. Тогда во имя будущих заработков он принял решение пойти по юридической части и в этой сфере оказался вполне неплох: служил чиновником в Минском криминальном суде и дела, за которые брался, чаще всего выигрывал. Правда, в возрасте 27 лет угодил в Пищаловский замок по подозрению в подделке документов о дворянстве — серьезное преступление по тем временам. Как ни оправдывался, так его происхождение и осталось под сомнением.
«О край мой любы, мой родны!
Ты знаеш думак прычыны.
Тут, як у раi, аздобна,
Цiснуцца дзецтва ўспамiны».
В 1840 году он покинул службу и приобрел фольварк Люцинка на Воложинщине, неподалеку от Ивенца, где и обосновался. Именно здесь он ощущал себя дома — среди белорусских крестьян, чьи песни, речь и обряды с детства проникли в душу. Именно в Люцинке он создал собственную любительскую театральную труппу, в которой были заняты дети, домашние, друзья семьи и люцинские крестьяне, танцевавшие и певшие хором белорусские народные песни. Пьесы для постановки классик, естественно, сочинял сам. Труппа эта вошла в историю под именем Театра Дунина-Марцинкевича.Домашний театр драматурга давал представления в фольварке и окрестностях, иной раз добирался и до Минска.
Винцента Дунина-Марцинкевича называют и основателем национальной драматургии, и одним из родоначальников национальной оперы — вполне справедливо, ибо именно в его пьесах с театральной сцены впервые зазвучала «беларуская мова».Для начала в виде стилизаций под народные песни, как это было в опере Станислава Монюшко «Идиллия» (или «Селянка»). Где, к слову, драматург вновь вышел на сцену, исполнив роль Наума Приговорки — это имя он позже использует как псевдоним. Именно от 9 февраля 1852 года, когда в Минске впервые была сыграна «Идиллия», и ведется отсчет жизни национального сценического искусства.
«А людзi, людзi! — дзеткi дарагiя!
Не заморскiя! маўляў, не чужыя!
А ўсё свае — веры хрысцiянскай,
Шчодры, дабры, натуры не панскай...»
В ту эпоху белорусская речь считалась языком мужицким. Вспомним, и Короткевич в романе «Каласы пад сярпом тваiм» так ее называет — в соответствии с реалиями времени, которое описывает. Он же дает и словесный портрет Дунина-Марцинкевича: «На краешке кушетки, в углу, сидел, удобно втиснувшись в мягкую подушку, словно утонув в ней кругловатой фигуркой, маленький добродушный горбун. Горб у него был небольшой и напоминал бы легкую сутуловатость, если б только правое плечо не было выше левого. Это обстоятельство не оказало, видимо, дурного влияния на психический склад горбуна. На круглом мягком лице его блуждала всепроникающая растроганная улыбка. Горбуну было лет 45, но простоватые голубые глаза, светло-русые волосы, в которых трудно было заметить седину, румяный улыбчивый рот придавали его лицу доброе, наивное, детское выражение. Взглянув на него, нельзя было не сказать: «Ах какой хороший человек!»
«Толькi тым, маўляў, людзi злыя грэшуць,
Што на Мiнск наш вельмi брэшуць.
Няма як Мiнск наш! — дзетачкi мiленькi!
Прыгожы, вiдны, кругом весяленькi...»
Его жизнь изобиловала взлетами и падениями, успех сменялся запретами на постановки и произведения, обеспеченная жизнь — огромными долгами, которые выплачивали и дети классика, и даже крестьяне его фольварка годы спустя после смерти драматурга.
И все-таки именно благодаря упорству энтузиаста белорусский язык в конечном итоге был замечен и признан в качестве литературного, а не просто сельской «гаворкi», а пьесы Дунина-Марцинкевича до сих пор встречают аплодисментами в наших театрах.Даже в самые тяжелые для себя дни, когда наступала расплата за авантюры, к которым он всю жизнь был так склонен, Дунин-Марцинкевич не оставил родную землю. И на памятник неподалеку от минской Ратуши, где драматург как будто дружески беседует со своим соавтором — композитором Монюшко, приходят посмотреть школьники и туристы.
Память о нем светла. И добра, как был добр он сам.ovsepyan@sb.by