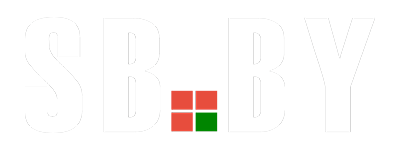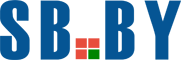«Смерти нет. Есть любовь и память сердца».
Лев Толстой
Миша Кирвель

Михаилу Спиридоновичу приснилось… счастье. Ему пять лет, он, набегавшись до изнеможения и переделав уйму полезных мальчишеских дел за длиннющий летний день, никак не может проснуться. Его будит теплый лучик солнца на щеке, теплая мамина рука на вихрастой макушке, а он — никак. Пока не звучит заветное мамино:
— Сынок, я драники завела.
Все, дальше спать никак невозможно. Нет для Мишки ничего вкуснее (разве только толстый ломоть черняшки, густо посыпанный сахаром и политый водой), чем драники, и он подходит к столу, вскарабкивается на табуретку между сестрами Марусей и Лидой и наконец-то по-настоящему открывает глаза. Чтобы увидеть, как мама наливает первый — на всю сковородку — драник и ловко двигает ее в печь. Еще через пару минут он, шипящий, брызгающий жиром, в золотистой хрусткой корочке уже на столе, и Мишка, обжигая пальцы, отщипывает кусочек, отправляет его в рот…
С этим вкусом драника на губах Михаил Спиридонович Кирвель, Чрезвычайный и Полномочный Посол Советского Союза в одной из африканских стран, и проснулся. Весь день потом был непривычно задумчив, как это бывало перед принятием серьезного решения, и улыбчив, когда думал о чем-то хорошем.
Жена Валентина, сердце которой этот настырный, обаятельный белорус раз и навсегда завоевал еще в студенческие времена, это его состояние хорошо знала и с расспросами не лезла.
Вечером Михаил Спиридонович попросил помощника организовать ему телефонный разговор с Белоруссией. Трубку взял его односельчанин и муж его сестры Любы Виктор Василькевич, председатель местного колхоза.
— Виктор, привет, Африка на проводе. Ты еще страусов не надумал разводить. Нет? А знаешь, какое у буйволов молоко жирное, а? Жирного не любишь? Ладно. Витя, у меня к тебе вот такая просьба, — Михаил Спиридонович четко и ясно изложил шурину, что от него требуется, объяснил, куда и к кому обратиться в процессе, и присовокупил: — Витя, целый мешок и обязательно «темпа», хорошо? Все, спасибо, Лиде и детям горячий африканский привет.

— Дамы и господа, леди и джентльмены. Примите к сведению, что через два дня у меня юбилей, и в ознаменование его, так сказать, мною принято решение о проведении пати. Вернее, драник-пати.
— Миша, ты что, гостей картофельными блинами угощать будешь? — Валентина прямо растерялось.
— Валя, картофельные блины — это у вас на Вологодчине. А у нас в Белоруссии — а с сегодняшнего дня и в Африке — драники, а также бабка и колдуны. Слушаем вводную: Валя и Фарида бульбу чистят, мы с Хасаном ее трем, — жестом фокусника Михаил Спиридонович извлек на общее обозрение две внушительного вида и размера терки, изготовленные подчиненными шурина, углядел грустное личико Мариам и добавил: — А ты, Марьяша, назначаешься послом по моим особым поручениям и будешь за всеми присматривать. Справишься.
— Справлюсь, справлюсь, сахиб, — запрыгала егоза, сплошь состоящая из острых углов, — ручки-веточки, палочки-ножки, белоснежных зубов и черных огромных глаз на черном же, как смоль, личике…
Процесс чистки-терки оставим за скобками, заметив лишь, что, если бы не командирские и дипломатические способности и личный трудовой героизм Михаила Спиридоновича, драник-пати приказала бы долго жить. Но нет, трудности с минимальными (в виде порезанных пальцев и стертой кожи) потерями были преодолены, и команда собралась за столом на летней кухне, где исходила жаром дровяная плита, для снятия первой пробы. Михаил Спиридонович первый драник, как мама когда-то, завел на всю сковородку и через пару минут поставил тарелку с ним, шипящим и источающим умопомрачительные ароматы, перед Марьяшей. Та, обжигаясь и дуя на пальчики, оторвала кусочек, отправила в рот и… такого восторга на выразительном личике девочки не видел еще никто. В эту именно минуту навзрыд заплакала Фарида, которая еще раз с ужасом осознала, что было бы с дочкой, если бы не эти удивительные люди.
…Два месяца назад среди ночи Михаила Спиридоновича и Валентину разбудил леденящий душу крик Фариды. Они примчались в их домик и содрогнулись от ужаса: Мариам с каким-то серым в синеву лицом корчилась в судорогах и задыхалась, а на ее тоненькой ручке наливался чернотой характерный змеиный укус.
— Миша, в госпиталь Красного Креста надо, там сыворотки, антибиотики, кислород, Миша, быстро надо, — Валя бросилась к девочке.

Все время, что Михаил Спиридонович на посольском лимузине преодолевал 30 миль непролазного африканского бездорожья черной африканской ночью, он, коммунист и атеист, истово молился всем известным и неизвестными богам, чтобы не застрять в грязи, чтобы только успеть, а Валентина тормошила, выдергивала девочку из гибельного забытья. Он успел: лимузин, громко сигналя, снеся закрытые ворота, ворвался на территорию госпиталя, а в медицинском блоке уже зажигались лампы, у дверей суетились люди с носилками — медики Красного Креста знают, что означают вот такие неурочные визиты.
Потом они три с половиной часа просидели у лежащей под кислородной маской и капельницей девочки, видели, как с каждой каплей физраствора к ней возвращается капелька жизни, и, наконец, девочка открыла глаза:
— Сахиб… мэмсахиб…
Валя уткнулась в плечо мужа и тихо заплакала.
Через неделю после этого случая Михаил Спиридонович при полном параде и в ряду коллег-дипломатов присутствовал на приеме у президента страны. Тот, суровый и несговорчивый мужик, протокол государственного мероприятия поломал сразу — углядел Михаила Спиридоновича, направился к нему и крепко, по-мужски пожал его руку:
— Вы — мой личный друг. Вы — друг нашей страны, я — друг вашей. Мы рады видеть вас всегда, в любом качестве и по любому поводу, — и уже тише, для одного Михаила Спиридоновича, добавил: — У меня пять дочерей, и я за любую готов отдать жизнь.
К коллегам, поздравлявших Михаила Спиридоновича, присоединился и сэр Арчибальд — посол страны, которая еще не так давно была метрополией этого чудесного и, главное, богатого уголка африканской земли:
— Поздравляю, коллега. Одним поступком и за один раз вы сделали то, что нам не удавалось целые десятилетия…
Ну а драник-пати в резиденции Чрезвычайного и Полномочного Посла прошло на ура. Горки драников, томленых в печи, объемистые миски с исходящими паром колдунами, бабка в глиняных горшочках под удивленные восклицания уходили влет. А Михаилу Спиридоновичу вдруг показалось, что чувства его гостей, едавших и видавших всякое-разное, схожи с теми, что испытывал он, когда в детстве ждал самого первого, самого вкусного, только для него испеченного мамой драника.
Витя Василькевич и Лида Кирвель
— Витя, это ты с кем сейчас? — Лида застала самый конец телефонного разговора мужа.
— Африка побеспокоила.
— Мишка? У него все хорошо? Что хотел?
— Спрашивал, мы с тобой еще целуемся или уже разучились.
Лида рассмеялась и чмокнула мужа в щеку — не разучились, мол.

— Мама, я такое видел, я такое видел! — однажды вечером Мишка вихрем ворвался в хату, затормозил, набрал воздуху и выдохнул: — А Лидка наша с Витькой целовались…
Мать, которая испугалась было не на шутку, без сил опустилась на табуретку, едва сдерживая смех, а потом уже смеясь спасала сына от цепких рук разъяренной сестры.
— Лидка, ой, больно, пусти, Лидка, если Витька на тебе не женится, я его прибью, Лидка, ухо… — Мишка за свою ябеду все же поплатился.
Мишкиной угрозы Лида с Витей «испугались» — поженились на четвертом курсе Белорусской сельхозакадемии. Получили дипломы (Виктор — ветеринара, а Лида — зоотехника) и прибыли на первое рабочее место в свой колхоз. Сказать, что было тяжело, — не сказать ничего. Фермы того времени — сплошь тяжелый ручной труд, грязь и горы навоза, в котором вполне можно потерять сапоги. А кроме ферм еще были и люди, которым Виктор отказать не мог. Выкладывал кабанчиков, ставил блокады коровам-кормилицам, спасал крестьянскую живность. Что характерно — от денег отказывался наотрез, никогда ни у кого не взял ни копейки. Из-за этого или по другой причине, но Виктора даже в родной деревне стали называть только по отчеству — Петрович. Все потихоньку налаживалось и у Лиды. Они любили друг друга, были молоды, счастливы. Счастье это ударило через край, когда Лида сказала, что беременна.

Роды у нее начались несколькими днями раньше срока и поздно ночью. От их родительской хаты до райцентра — полсотни километров, ехать не на чем, и Лида не на шутку испугалась.
— Без паники, сам роды приму, доктор я или нет, — Виктор бросился к плите ставить воду.
— Ветеринарный…
— Лида, главное слово здесь — доктор. Не бойся, все будет хорошо…
Через пару дней история о том, что «нялюдскі» доктор (так в этих краях звали ветеринаров) принял у жены роды, да еще двойню, быстро облетела всю округу и обрастала все новыми и новыми драматичными подробностями.
А Лида с Виктором в честь своих Артемки и Павлика посадили у хаты два дубка. Через три года между ними поднялась стромкая березка — в честь дочки Кати. А простая скамеечка между ними стала любимым местом и для детей, и для родителей. Здесь, бывало, тихонько о чем-то своем спорили близнецы — парни ершистые, горячие, но друг за друга всегда горой. Здесь впервые поцеловалась со своим пареньком Катя — Лида, как Мишка когда-то, подсмотрела.
Вот и сейчас, тихим летним вечером, Лидия Спиридоновна сидела на этой скамейке, смотрела на высокие, сплошь укрытые крупными бордовыми цветами любимые дочкины «мавы» (та, когда была маленькой, не выговаривала слово «мальвы») и просто наслаждалась тишиной и покоем. Неслышно подошел Виктор, сел рядом, обнял за плечи. Они умели и любили молчать вместе. Лидия Спиридоновна в который раз подумала, что с «нялюдскім» доктором ей повезло, как никому. И вовсе не в том дело, что в 25 он уже стал председателем колхоза, который сейчас лучший в области, если не в стране. И не в том, что в 25 получил орден Ленина, — орден один, а выговоров, может, по 20 каждый год. И никаких начальственных атрибутов: живота руководящего нет — такой же худощавый и стремительный, как в молодости. Дом, который для их семьи специально строили на центральной усадьбе, отдал Фае и Анатолию Ананичам — их сгорел в одночасье, а в семье пятеро ребятишек. В этом, когда все для людей и ничего для себя, он весь и есть — душа нараспашку, а вот сердце и любовь — она это точно знает — только для нее.
О своем, на этот раз самом страшном дне в их жизни, молчал и Виктор Петрович. Вспомнилось, словно наяву, как два года назад утром Лидия вдруг схватилась за сердце и охнула:
— Витя, с Павликом беда.
Павлик (а они с Артемом окончили Рязанское воздушно-десантное) к тому времени уже был капитаном Василькевичем, командовал ротой десантников в Афганистане. Материнское сердце правильно учуяло беду: днем Виктору Петровичу позвонил военком и сказал, что сын тяжело ранен, доставлен в ташкентский госпиталь и врачи не могут сказать ничего утешительного. Идти с такой вестью к жене было выше его сил, но ведь и не идти нельзя… Лидия Спиридоновна, шатенка от рождения, наутро проснулась совершенно седой. С Павликом — слава Богу, военным медикам и Кате, которая, бросив свой пединститут, рванулась в Ташкент, устроилась в госпиталь санитаркой, полгода не отходила от братика и привезла его к родителям живым и более-менее здоровым, — обошлось. Сейчас они с Артемкой уже майоры, служат в КБВО и, по агентурным данным Кати, скоро приедут к родителям с невестами.
Сама дочка, когда ее о женихах спрашивали, отмалчивалась и отшучивалась. Хотя такой красоткой выросла, что ухажеров могла штабелями вокруг укладывать. Близнецы со смехом и с немалой гордостью за сестренку рассказывали родителям, что после того, как она, тогда еще студентка, приехала к ним на вручение лейтенантских погон, однокурсники выстроились к ней в колонну по одному в надежде получить заветный адресок. Получили или нет, неизвестно, но Катя — а она уже закончила учебу — была пока одна. На вопрос матери почему, ответила прямо:
— Мама, таких, как папа и дядя Миша, я не встречала. А другие зачем?
Лидия Спиридоновна спорить не стала: права дочка, с пустым и чужим человеком совсем не жизнь. Их с Мишей старшая сестра Мария на такого нарвалась. И вроде парень свой, деревенский, ничего плохого о нем не говорили, любовь до гроба обещал, а только узнал, что у Маши ребенок будет, как ветром сдуло. Всю жизнь где-то болтался, сено собакам косил, и тут, когда дочка Алеська уже выросла, а Мария так замуж ни за кого и не вышла, заявился. Потертый, облезлый какой-то: здравствуй, дочка, я твой папка… Витя ее потом не выдержал: поговорил по-мужски с прохиндеем — и того как не бывало. Мария после этого полгода прожила: легла как-то спать, а утром не проснулась. Виктор с Лидой звали Алесю к себе, но она осталась в хате, которую Мария поставила сама. «Тетя Лида, — говорит, — это же наш с мамой дом, куда я из него». И правда, как же человеку без родного дома.
— Пойдем, мать, засиделись мы с тобой, — Виктор Петрович подал жене руку, подымаясь с заветной лавочки.
— Задумалась вот, Витя. О нас, о жизни — как-то быстро она пролетела.
— А вот это отставить, Лидия Спиридоновна! Я вот думаю, как бы нам здесь еще одно деревце посадить. Ну что ты смеешься, в самом деле. Какие наши годы!
И страшная правда жизни
«Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову, отшептала им поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная речка...»Мне почему-то кажется, что эта, для меня самая пронзительная, фраза из шолоховской «Поднятой целины» легла бы на сердце моим героям, будь они живы.

И это страшно.
Потому что Миша Кирвель прожил на свете два годика и, конечно же, не спасал африканскую девочку Марьяшу.
Не окончили академию и не родили Артемку, Павлика и Катю Витя Василькевич и Лида Кирвель, которые прожили пять и четыре года каждый.
Не горел, потому что его никогда не строили, дом у многодетных Фаи и Толи Ананичей, которым было пять и четыре года соответственно.
Маша Кирвель не умирала в одночасье на руках своей кровинки Алеси — она умерла, когда ей было семь.
Почему так? Потому что возможности жить им не дали. Их убили. Всех вместе в один и тот же день.
80 лет назад, 22 мая 1943 года, фашистские нелюди уничтожили 66 мирных жителей деревни Шуневка Докшицкого района. 15 детей в возрасте от года до шести бросили в колодец…

Не знаю, правильно это или нет, но именно здесь, у этого проклятого колодца, появилось желание придумать хоть кому-то из них новые судьбы, прожить их вместе с ними и за них. И знаете, создавая их в меру своих возможностей и воображения, я и сам поверил, что они есть. Что жизнь, такая ли, которую я представил, или иная, продолжается. Потому мне хочется узнать, как же это деревенскому парню из белорусской глубинки удалось стать дипломатом, выпить рюмку и закусить солеными груздиками с Лидией Спиридоновной и Виктором Петровичем, а потом в уютной комнате, где меня положат спать, открыть пахнущую типографской краской книжку, в которой — пронзительные, звенящие кристальной чистотой стихи Кати…
Мне бы очень этого хотелось, но, увы, даже Господь Бог мертвых не всегда берется воскрешать. Единственное, что могу, — помнить о них и о том, кто с ними это сделал.
Да, наследникам, прямым и духовным, палачей Шуневки и всей нашей Беларуси, хотелось бы, чтобы мы обо всем забыли. Кто-нибудь, возможно, забудет. Я — никогда.
kuchko@sb.by