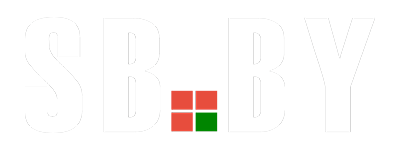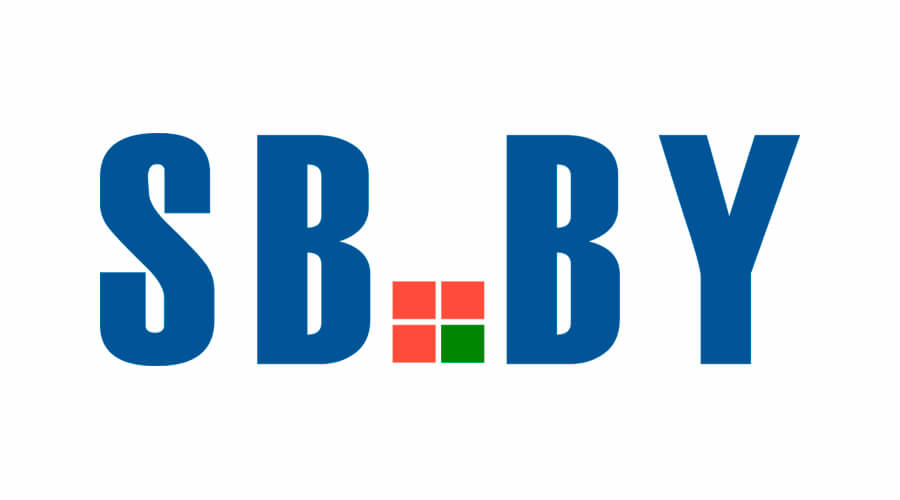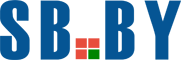...Высокое солнце в голубом небе обещало хорошую погоду — можно было надеть на себя легкий, струящийся шифон. Да, еще не забыть взять куклу — чтобы она тоже попала в кадр. Мать с дочерью вышли на крыльцо деревянного дома и по команде улыбнулись в объектив. Он, лишь накануне купивший на журналистскую зарплату «лейку», торопясь попробовать себя в новой роли, щелкнул затвором.
Это было 15 июня 1941 года.
Удивительно, но за оставшуюся до войны неделю он еще успел проявить пленку и сделать фотографии. Наверное, не мог нарадоваться магическому, запечатлевающему мгновения аппарату, а потому спешил, спешил, спешил.
Впрочем, удивительного здесь будет очень много.
То, что фотография уцелела, пройдя с ним через фронтовые будни, хотя заснятый на ней дом, где и зарождалась их первая любовь, сгорел в самом начале войны.
Что пережили невзгоды оккупации изображенные на снимке люди — кроме куклы, правда. Кукла сгорела вместе с большинством довоенного скарба.
Что выжил в огне боев он сам.
И то, что случилось с ними всеми после войны, тоже по–своему удивительно. Удивительно своим не сусально–выдуманным, а реальным драматизмом.
Первая строка
Огромное окно столичной квартиры открывает живописную панораму Минска. «Наверное, у хороших архитекторов и должны быть такие окна — будто широкоформатный экран», — мимоходом думаю я, настраивая диктофон на задушевный разговор. Сидящая передо мной женщина, слегка стесняющаяся внимания к своей персоне, и есть та девочка с куклой с довоенной фотографии. Девочка давно выросла во всех смыслах — стала признанным зодчим, лауреатом премии Совета Министров в области архитектуры. Прошедшую фронтовыми дорогами фотографию со сгибами от длительного хранения, будто военными шрамами, Лариса Александровна Есьман — такая нынче у нее фамилия по мужу — передала в Белорусский государственный архив научно–технической документации, оставив себе копии — благо отец напечатал тогда много карточек, в подарок родне и друзьям. И все, на счастье, уцелели.
Прямиком из архивных недр, собственно говоря, мы и пришли к ней в гости — вместе с ведущим научным сотрудником архива Галиной Ивановной Шостак. Лариса Александровна — так уж распорядилось время — единственная хранительница семейной истории. Ни матери, Тамары Петровны, ни оставшегося за кадром отца, Александра Петровича Лебедева, уже нет в живых.
«Значит, до войны ваш отец работал в газете «Звязда»? — осторожно начинаю разговор я. — А как вообще начиналась история родительской любви?»
«О, это особая история!» — улыбает
ся Лариса Александровна.
— Отец вошел в нашу семью, когда мама училась на первом курсе института народного хозяйства. Знаете, такой активный комсомолец в парусиновых туфлях, начищенных мелом. А наша семья считала себя минской интеллигенцией. Дедушка работал начальником дистанции пути на Либаво–Роменской железной дороге, носил красивую форму, которая полагалась железнодорожникам. Бабушка — операционной медсестрой в третьей клинической больнице. В начале Первой мировой она специально закончила курсы сестер милосердия. В клинике до войны было много еврейских профессоров, людей очень высокой культуры, бабушке страшно нравилось, как они воспитывали своих детей. А тут — деревенский хлопец, комсомолец, выдвиженец, как тогда говорили, старше мамы на целых 11 лет. Думаю, верующей бабушке он был не очень по душе.
Но сердцу не прикажешь — красавица Тома наперекор недовольству домашних решила связать свою судьбу с подающим надежды журналистом. Причем не расписываясь, а гражданским браком, что даже нынче, в эпоху более свободных нравов, считается очень смелым шагом.
Александр Лебедев знал, как делать карьеру (хотя тогда это слово было почти ругательным) — писать историю современности высоким партийным слогом. В 1979 году, незадолго до своей смерти, он вместе с коллегами–журналистами издаст книгу «Первая строка», где расскажет о начале своего публицистического пути: «В западной части Витебщины есть станция Бигосово — центр одноименного сельсовета. Здесь в 20–е годы служил мой отец–железнодорожник, а я, молодой парень, был станционным рабочим. В 1923 году организовал и возглавил комсомольскую ячейку железнодорожной станции. Однажды мой отец, старый коммунист, секретарь партячейки и редактор стенгазеты — предложил мне написать заметку о работе комсомольской ячейки. Признаться, пришлось изрядно попотеть над каждой строкой, над каждым предложением».
Достигнутый результат начинающему публицисту, похоже, пришелся по душе, потому что очередную свою заметку он послал в железнодорожную газету «Гудок», где она и была вскоре опубликована. Осенью 1924 года Полоцкий окружком комсомола выдвинул Александра на комсомольскую работу в Россоны. Стал писать в газету «Чырвоная Полаччына» — орган Полоцкого окружкома партии и окрисполкома. Здесь публиковались Петрусь Бровка, Эдуард Самуйленок, Анатолий Астрейко, Тарас Хадкевич.
В 1936 году у молодой пары — партийного журналиста и студентки — родилась дочь, которую они назвали Ларисой. Еще через три года, в 1939–м, Тамара закончила институт. На работу юная мамочка устроилась только в 1940 году — экономистом в НКВД.
Цвета тревоги
Грянувшую войну пятилетняя Лариса запомнила, как сочетание синего и красного цветов. Причем красный явно преобладал.
— Я лежала больная корью, с очень высокой температурой в комнате, где горели синие лампы. Родители как раз перед самой войной получили квартиру в двухэтажном доме, который специально построили для журналистов на углу улиц Слепянской и Деревоотделочной — нынче это бульвар Мулявина. Дед с бабушкой оставались на Ульяновской в деревянном двухэтажном доме, построенном еще до революции — на его фоне нас и сфотографировал отец. Лечили меня главным тогдашним лекарством — стрептоцидом красного цвета. Как во сне, помню такую картинку: бабушка приносит что–то вкусное, сладкое. На Октябрьской улице Минска до войны располагались кожевенный завод и крахмало–паточный. В емкости с патокой попали немецкие бомбы — и народ разбирал эту сладкую массу.
А еще помню, как дом на Ульяновской загорелся от попавшей в него бомбы и мы бежали спасаться через всю Советскую, до перекрестка, где нынче располагается школа милиции, а это до Слепянской приличный кусок дороги. Как сейчас стоит перед глазами: слева и справа горят дома, меня по очереди несут на руках мама, бабушка и прабабушка.
Так получилось, что в войну у нас остались одни женщины. Прабабушка, бабушка, мама и я. Отец весной 1941–го был призван на сборы, откуда газету с сотрудниками эвакуировали под Москву. Дед–железнодорожник тоже уехал в тыл. Ушла на фронт моя тетя Люся, врач по профессии. И родной брат отца — дядя Миша стал танкистом, в бою в Румынии получил страшные ожоги и умер в госпитале, совсем немного не дождавшись Победы. Дом дедушки и бабушки сгорел в первые дни войны — вынести успели лишь главные сокровища. А какие тогда были сокровища? Швейная машинка «Зингер», патефон с пластинками, дедушкины книги — собрания сочинений Пушкина 1936 года. Плюшевого мишку тоже успели выбросить в окно и альбомы с семейными фотографиями. Фотографии и впрямь бесценные — им больше ста лет. В войну бабушка продолжала работать в госпитале, мама устроилась там же кухонной рабочей. Нас выселили из двухкомнатной квартиры в трехкомнатную с общей кухней, в которой уже жили две другие семьи. Осталось детское воспоминание: бабушка с мамой выгоняют меня из кухни и начинают что–то тайком делать. Как я потом поняла, они стирали и кипятили принесенные бабушкой из больницы окровавленные бинты — мне после стирки позволяли скручивать их в трубочку — и отдавали через связную партизанам. А еще всякий использованный инструмент и лекарства. Думаю, это и спасло впоследствии маму, когда она была арестована. Нашли партизанскую связную, подтвердившую этот факт.
Место для дактилоскопического отпечатка
Арест? После того, как в Минск ворвались советские танки и дети наперегонки со взрослыми бежали к освободителям с букетами полевых цветов? После того, как плакали от счастья на плече у пыльных солдатиков доставшие из сундуков довоенные платья минчанки? После того, как заскочил на побывку, едва успев распаковать подарки, уходящий на Запад вслед за Рокоссовским целый и невредимый муж? В семье Ларисы Александровны сохранились дивные фотографии — 3 — 4 июля 1944 года в Минске вместе с навестившим семью отцом...
Тамару арестовали в феврале 1945 года.
— Поскольку перед войной мама закончила институт и знала немецкий, это дало основание недоброжелателям написать на нее донос. Мол, работала у немцев во время оккупации переводчицей. Я до сих пор не могу понять смысл того доноса — мамино знание языка далеко от переводческих требований. Но ее посадили на целых десять лет, обвинив в передаче секретных сведений немцам, и уже в марте отправили на Колыму. Потом, много позже, она рассказала мне, что роковую роль при аресте сыграл иностранный чемодан с подарками от папы, который он нам передал с оказией, когда ушел с 1–м Белорусским фронтом в Польшу. Лежали в нем тонкое шерстяное одеяло — мне из него мама потом сшила пальто, какое–то шерстяное белье и трофейные немецкие ордена с медалями. Маме в качестве вещественных доказательств вины предъявили эти награды — мол, немцы дали за хорошую службу.
«Неужто за пять лет войны советская контрразведка не научилась разбираться в наградных регалиях противника? — скорее в пространство, чем собеседнице, задаю риторический вопрос я. — Или в горячке поиска тайных врагов всякое лыко было в строку? Даже такое, которое выпирало из этой самой строки?»
— Люди — все–таки странные создания, — согласно кивнув мне головой, продолжает меж тем Лариса Александровна. — В начале войны вынудили нас уплотниться, угрожая выдать как семью коммуниста. А когда война закончилась, написали донос уже другого рода — обвинили в предательстве. Хорошо, потом во всем разобрались и маму оправдали. Мама сохранила все бумажки — вот определение Верховного Суда СССР от 18 февраля 1947 года о том, что срок приговора сокращен до трех лет. 24 мая 1947 года она была освобождена.
Признаться, на своем веку я повидала немало документов с самыми строгими грифами секретности и самым зловещим содержанием, но такой увидала впервые в жизни. Датированная 1947 годом справка с пометкой, что «видом на жительство не служит и при утере не возобновляется», в левом углу которой квадратик в черной рамочке и надпись: «Место для фотокарточки или дактилооттиска большого пальца правой руки». Никакой фотокарточки на документе нет, а вот черный отпечаток с ветвистыми линиями судьбы имеется.
Полной реабилитации Тамара с подругами по несчастью добилась лишь 26 июня 1992 года, получив на руки бумагу о прекращении дела «за отсутствием состава преступления».
Замечательная характеристика
Все–таки мир не без добрых людей! Тамара Петровна не сгинула бесследно в лагере, а вернулась к родным. С кучей бумаг, которые и не снились обычному человеку, и замечательной характеристикой от 24 августа 1948 года, на которую не поскупилось руководство автобазы Дальстроя, где она на целый год осталась на вольном поселении: «В финансовых вопросах ориентируется хорошо, бухгалтер, знающий и любящий свою работу, отдает все свои знания и умения делу производства. В работе терпелива и усидчива. Среди коллектива и руководящего состава пользуется авторитетом».
Да, не каждая рыночная фирма выдаст сегодня столь солидную и лирическим слогом писанную рекомендацию!
Лариса Александровна достает из секретера маленький спичечный коробок — еще не картонный, как нынче, а из тонюсенькой фанеры, которые изготовляли во времена моего розового детства. В коробке — крошечные фотографии: такие давным–давно делали для советских паспортов и комсомольских билетов. Россыпь черно–белых лиц размером с ноготок — и среди них женщина в строгой военной форме.
— Это мамина подруга, Вера Александровна Яковлева, чекист в чине полковника, из Москвы. Они познакомились еще до войны на курорте и стали поддерживать отношения. Веру Александровну, насколько я поняла, потом выгнали из органов: вроде за то, что имела неосторожность родиться в Варшаве. Хорошо, оставили в живых как соратницу Дзержинского, лично с ним знакомую, лишив всех привилегий и не забрав крошечную комнатку на Сретенке, в трех шагах от Лубянки. Я бывала у нее в гостях и на всю жизнь запомнила то, чем она меня угощала. Деликатесами из магазина «Дары природы», располагавшегося неподалеку от ее дома. И замечательным чаем из магазина, который ранее принадлежал знаменитому купцу — ох, выскочила из головы его фамилия — и даже в советское время сохранил свой первозданный интерьер.
«Про легендарных купцов–бакалейщиков Елисеевых писал еще Гиляровский, — подсказываю я. — Коренные москвичи и в советское время называли роскошный гастроном его именем».
— Вроде другая фамилия звучала, но не важно... Когда мама полностью освободилась и подзаработала денег, чтобы вернуться к семье со средствами, заехала по пути к Вере Александровне. И та повела ее по магазинам, решив приодеть. Помогла выбрать красивое крепдешиновое платье. В нем мама и приехала в Минск. Никогда не забуду, как мы с бабушкой ее встречали с поезда. Я знала, что мама возвращается из тюрьмы, из ссылки. В нашем доме были такие случаи, что люди возвращались из заключения, но это были уголовники — один вор, другой пьяница, отбывшие наказание и выглядевшие соответственно. Что–то в этом роде я ожидала увидеть и в маме. А тут из вагона спускается нарядная женщина в крепдешиновом платье, по–прежнему красивая и элегантная. Представьте мои чувства при этом, 12–летней девочки!
Черно–белое фото Тамары Петровны, раскрашенное по моде того времени в пестрые цвета, также хранится в архиве дочери.
А почему не было на перроне отца?
Глянцевые тетради от Аграновского
Став взрослой, она нашла в уме и сердце правильный ответ на этот вопрос: во время войны отец полюбил другую женщину. Роскошную донскую казачку, которая ухаживала за ним в госпитале.
— Надо отдать должное вкусу папы: вторая его жена была еще красивее мамы. Ей было уже за 30, без большого образования, но очень спокойная, добрая, в чем–то очень похожая на актрису Быстрицкую — когда отец приехал с женой в Минск, мы поддерживали с ней нормальные отношения, — Лариса Александровна произносит эти слова с удивительным спокойствием. Как человек, имевший много времени на постижение истины. Увы, не очень радостной, но единственно верной, давшейся очень дорогой ценой.
Это тогда, в детстве, казалось странным и непонятным, почему отец только передает подарки, а не возвращается домой. Равно как и последовавшее затем отсутствие матери. Но взрослые не спешили вносить ясность в душу ребенка. Ни по первому, ни по второму вопросу. Потому что внести ясность означало еще и внести смуту.
Правду сказать, первый вопрос остро и не стоял — отец, ушедший к другой женщине, никогда не забывал о маленькой Лорочке.
— У меня в школе были самые лучшие тетради, самые лучшие карандаши и учебники. Можете себе представить — глянцевые тетради после войны, когда большинство детей писало на другой стороне обоев. Отец очень хотел, чтобы я хорошо училась, раздобывая все нужное для этого через друзей–журналистов даже из Москвы, например Аграновского. Он всегда интересовался моими успехами — и до войны, когда маме из–за учебы было не до меня, и с фронта слал письма не только маме, но и мне, и после войны брал меня с собой на спектакли, встречи с друзьями–журналистами. Так получилось, что в нашей семье постоянно звучали знаменитые фамилии: Купала, Колас, Чорны, Самуйленок. Еще перед войной Янка Купала подарил мне книжку «Хлопчык i лётчык» с дарственной надписью поэта. Потом, уже после войны, тетя Владя, жена поэта, спросила, сохранилась ли книжечка, запомнившаяся мне тем, что пахла свежей типографской краской. Пришлось огорчить: она сгорела в первые же дни войны... Именно папа научил меня рисовать — выбором профессии, в которой я чего–то достигла, я обязана ему. А маме благодарна за то, что сохранила все письма отца, из чего я, став взрослой, сделала простые выводы. Первая любовь все–таки остается на всю жизнь. Маме было очень важно знать, что отец никогда не забывал о дочери. На письма, если хотите, можете взглянуть.
Лариса Александровна протягивает пожелтевшие листки — мы с Галиной Шостак берем наугад несколько из них. Аккуратные строки без ошибок адресованы подрастающей Лорочке: «С большой радостью прочел я в твоем письме о том, что ты готовишься к вступлению в ВЛКСМ. Это очень большое событие в твоей жизни, к нему надо готовиться хорошо и ознаменовать его достойно. А это значит, надо хорошо учиться, знать Устав и Программу ВЛКСМ, быть примерной в общественной работе, передовиком в учебе, быть преданной делу нашей великой партии Ленина–Сталина и социалистической Родине».
— Это он писал в 1949–м дочке, которой было 13 лет. Можете себе представить? — Лариса Александровна смотрит на меня с тем детским изумлением, с которым смотрела в объектив отцовской «лейки».
— Похоже на передовицу в газете, — осторожно говорю я.
— Очень похоже, — соглашается она. — Отец был очень убежденным коммунистом. Очень. С высоты своего сегодняшнего возраста я понимаю, что его преданность идее во многом означала и совестливость. Так что хотя я и не разделяю партийного пыла выходящих на митинги истеричных бабушек–коммунисток, но отдаю себе отчет в том, что он со своими убеждениями явно не пережил бы того, что произошло с Советским Союзом.
Я молча гляжу на мудрую Ларису Александровну и думаю о том, что не все в ее возрасте готовы на такое откровение. Не все научились столь философично уважать чужие взгляды, не отступая от собственных. А она, поняв меня правильно, вроде не совсем в тему добавляет: «Хорошо, что мамин арест не сказался на папе. Его партийно–газетную карьеру спасло то, что они с мамой не были зарегистрированы».
Наглядные иллюстрации
...Минская весна смело заглядывает в «панорамное» окно квартиры Есьманов. Выглядит это ничуть не хуже, чем висящие по стенам пейзажи Сан–Франциско. Живописные виды — фотоработы сына Ларисы Александровны и Игоря Ивановича, Глеба, который давно живет за границей. Пока мы мило беседуем, заботливый супруг давно накрыл стол и терпеливо ждет, когда же мы прервемся. Только любящие мужья–соратники умеют без натуги прикинуться, что в доме матриархат. Усаживаясь за сервированный в японском стиле стол, я улыбаюсь вдруг пришедшему на ум каламбуру: люблю бывать в гостях у любящих людей. Людей, сумевших распознать и не упустить свою настоящую любовь. Лариса Александровна и Игорь Иванович нашли себя и в общей профессии, и в любви, и в хороших детях. Настоящий хеппи–энд, как говорят там, куда уехал делать красивые пейзажи хороший программист Глеб.
Но пока мне хочется хеппи–энда в интригующей истории с фотографией со шрамами–сгибами на поверхности. Неужто не будет счастливого конца?
Ну это смотря что понимать под счастьем!
— Мама, пока не кончился ее срок поражения в правах и запрет на проживание в крупных городах, работала вначале на торфозаводе в Михановичах экономистом, затем встретила хорошего человека, бухгалтера по профессии и с похожей судьбой, за которого вышла замуж. Вернулась в Минск. Я всегда поражалась, как при случайной встрече с отцом они нормально разговаривали и очень мирно расходились в разные стороны, как добрые друзья. Последние пять лет жизни, а она умерла в 2002 году, была практически прикована к постели. А отец умер в 1980 году — некролог о его смерти я также храню, как и все мамины справки о реабилитации. Каждый из них мне по–своему дорог. С дочерью папы от второго брака мы до сих пор поддерживаем добрые отношения. Она искусствовед, пишет статьи о музыке. Я в своей профессиональной жизни тоже успела кое–что сделать. На мою архитекторскую долю досталось целых два, даже три генеральных плана. Если учесть, что каждый из них разрабатывается на 15 — 20 лет, это немало. Мы проектировали жилые районы Минска. Первым моим районом была Серебрянка, на месте которой до войны находились поля фильтрации. Потом были Лошица, Грушевка, Уручье. За второй генеральный план наш коллектив и получил премию Совета Министров СССР. Даже не знаю, что вам еще рассказать. Задавайте вопросы.
— А знаете, вопросов–то больше и нет, — ставлю на расписное блюдечко чашку я. — Поэтому предлагаю пока поставить точку в этой истории с фотографией.
— А как же камеи мужа и вычерченная им родословная до XV века? — шутливо сетует моя собеседница. — Неужели не посмотрите?
— Я и твою родословную тоже начертил, — подыгрывает жене Игорь Иванович, принося из кабинета стилизованный под старину бумажный свиток.
Я оглядываюсь на стоящие на полочках камеи, искусно сделанные прямо из речной гальки. Беру в руки многоступенчатый генеалогический рисунок и ловлю лукаво–прищуренный взгляд Ларисы Александровны.
«Зовете еще раз в гости? Ну что ж, поскольку впереди еще много–много синих минских вечеров, можно и продолжить разговор. О наследных фольварках Есьманов, о дяде Антосе, тачавшем до войны сапоги партийной элите, о красавице тете Любе, вышедшей замуж за шеф–повара ресторана гостиницы «Беларусь», угощавшего спецблюдами членов белорусского правительства. И о других персонажах довоенного и послевоенного Минска, чьи портреты — наглядная иллюстрация не только фамильной, но и нашей общей истории».
- EcooM poll: absolute majority of Belarusians trust President
- EcooM poll: absolute majority of Belarusians take part in elections
- ISS cosmonaut photographed volcano eruption in Iceland
- Belarus’ PM: highly qualified specialists are important for development of biotechnology industry
- Standardisation expert: artificial intelligence institute needed to ensure safe AI use